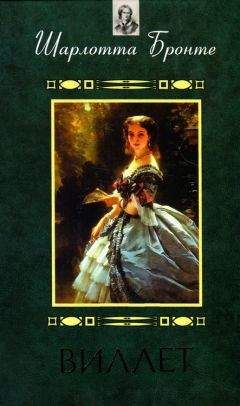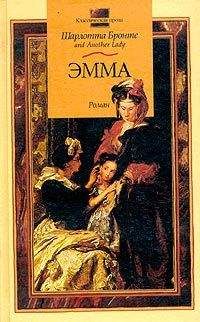Но не буду более томить читателя и поведаю радостную правду. Грэм Бреттон и Полина де Бассомпьер поженились, и доктор Бреттон стал одним из таких свидетелей. Время не омрачило его, недостатки его стерлись, расцвели достоинства, ум его отточился, открылись глубины души, осадок отстоялся, и еще ярче заблистало драгоценное вино. Столь же прекрасна была судьба нежной его жены. Она всегда пользовалась горячей любовью мужа и стала краеугольным камнем в прочном здании его счастья.
Мирно текли их дни, но благополучие не очерствило их сердец, они помогали другим великодушно и разумно. Конечно, и они знали огорчения, разочарования и тяготы, но умели их одолевать. Не раз приходилось им смотреть в лицо той, которая так пугает смертного, пока он дышит.
Да, они заплатили свою дань курносой. Достигнув полноты лет, ушел от них мосье де Бассомпьер. Дожив до старости, покинула их и Луиза Бреттон. Однажды раздался под их кровом и плач Рахили по детям. Но другие дети, здоровые и цветущие, восполнили утрату. Доктор Бреттон вновь узнавал себя в сыне, унаследовавшем его нрав и наружность; были у него и крепкие красивые дочери, тоже в него. Детей он воспитывал бережно, но строго, и они выросли достойными родителей.
Словом, я не преувеличиваю, когда утверждаю, что на Грэма и Полину пало высшее благоволение и, подобно любимому сыну Иакова, Господь благословил их «благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу». Так это было, и Бог видел, что это «хорошо весьма».
Но не для всех так бывает. Что ж! Да будет воля его, которая, впрочем, и осуществляется всегда независимо от того, склоняемся ли мы перед нею в смиренной покорности. Сами законы творения ей способствуют; силы, видимые и невидимые, заняты ее исполнением. Знак будущей жизни нам дается. Кровью и огнем, когда надобно, начертан бывает этот знак. В крови и огне мы его постигаем. Кровью и огнем окрашивается наш опыт. Страдалец, не лишайся чувств от ужаса при виде огня и крови! Усталый путник, препояши свои чресла; гляди вверх, ступай вперед. Паломники и скорбящие, идите рядом и дружно. Темным пролегает для многих путь посреди житейской пустыни; да будет поступь наша тверда, да будет наш крест нашим знаменем. Посох наш — обетования того, чье «слово право и дела верны», упованье наше — промысл того, кто «благоволением, как щитом, венчает нас», обитель наша — на лоне того, чья «милость до небес и истина до облаков»; и высшая наша награда — царствие небесное, вечное и бесконечное. Претерпим же все, что нам отпущено; снесем все тяготы, как честные солдаты; пройдем до конца наш путь, и да не иссякает в нас вера, ибо нам уготована участь более славная, нежели участь победителей: «Но не ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой? Мы не умрем».
В четверг утром мы все собрались в классе, ожидая урока литературы. Час пробил — мы ждали учителя.
Ученицы старшего класса сидели совсем тихо; написанные набело сочинения, приготовленные к уроку, аккуратно перевязанные ленточками, ждали, когда же их соберет быстрая рука профессора. Стоял июль, утро было ясное, стеклянную дверь приотворили, и в нее врывался свежий ветерок, а увивавший ее плющ колыхался, заглядывал в комнату и словно нашептывал новости.
Мосье Эмануэль не отличался точностью; ничего не было странного в том, что он запаздывает, но каково же было наше удивление, когда дверь распахнулась и вместо стремительного мосье Поля на пороге показалась степенная мадам Бек.
Она подошла к столу мосье Поля, остановилась, поплотней закуталась в свою яркую шаль и произнесла твердым тихим голосом, не спуская с нас пронзительного взгляда:
— Сегодня урока литературы не будет.
Она помолчала минуты две и лишь затем продолжила:
— Возможно, у вас целую неделю не будет уроков. Мне она понадобится, чтобы найти достойную замену мосье Эмануэлю. А пока я постараюсь заполнить освободившееся время полезными занятиями. Ваш профессор, мои милые, намеревается, если удастся, как следует с вами проститься. Покамест у него нет времени для этой церемонии. Он готовится к длительному путешествию. Внезапный и неотступный долг призывает его в дальний путь. Он решился надолго покинуть Европу. Возможно, он сам расскажет вам обо всем подробнее. Сегодня, мои милые, вместо обычного урока мосье Эмануэля вы займетесь английским чтением с мисс Люси.
Она величаво склонила голову, поправила на плечах шаль и выплыла из класса.
Все притихли; потом по комнате прокатился рокот, кое-кто, кажется, плакал.
Время шло. Шум, шепот, всхлипывания делались все громче. Дисциплина разлаживалась, начинался беспорядок, девицы словно почувствовали, что надзор ослаблен и они остались без присмотра. Привычка и чувство долга заставили меня быстро собраться с силами, подняться как ни в чем не бывало, заговорить обычным голосом, потребовать и наконец добиться тишины. Мы долго и тщательно разбирали английский текст. Все утро я занимала этим учениц. Помню, рыдающие девицы вызвали во мне досаду. В самом деле, чувствительность их немногого стоила — просто истерика. Я это без обиняков им объявила. Я их чуть не подняла на смех. Я была сурова. На самом же деле меня мучили их слезы, их рыдания; я не могла их вынести. Одна глуповатая унылая ученица продолжала всхлипывать, когда все другие уже умолкли; безжалостная необходимость заставила меня и помогла мне так с ней обойтись, что ей пришлось проглотить слезы.
Девочка эта вправе была бы меня возненавидеть, но после урока, когда все стали расходиться, я задержала ее, подозвала и — чего никогда не случалось со мною прежде — прижала к своей груди и поцеловала в щеку. Но, поддавшись этому невольному порыву, я тотчас вытолкала ее за дверь, потому что, не выдержав моей ласки, она вновь залилась слезами и зарыдала, что называется, в три ручья.
Весь день я трудилась не покладая рук, а ночью вовсе не стала бы ложиться, если бы можно было жечь свечу до утра. Ночь прошла мучительно и плохо подготовила меня к предстоявшему на другой день испытанию — необходимости выслушивать сплетни. Новость обсуждали все кому не лень. Лишь поначалу все от удивления попридержали языки; эта сдержанность скоро прошла, языки развязались. У учительниц, учениц, даже у служанок не сходило с уст одно имя — Эмануэль. Как, служить в школе с самого начала и вдруг уйти? Все находили это странным.
Говорили о нем так много, так долго, так часто, что из всего этого потока слов в конце концов кое-что стало выясняться. На третий день, кажется, я от кого-то узнала, что он уезжает через неделю, потом услышала, что он собирается в Вест-Индию. Я заглядывала в глаза мадам Бек, отыскивая в них подтверждение либо опровержение этим сведениям, но не выудила из нее ничего, кроме обычных пошлостей.
Она сообщила, что этот уход для нее большая потеря. Она просто не знает, кем заменить мосье Поля. Она так привыкла к своему родственнику, что он стал ее правой рукой, и как же теперь ей без него обойтись? Она пыталась удержать его, но мосье Поль заявил, что его призывает долг.
Все это она объявляла во всеуслышание в классах, за обедом, громко обращаясь к Зели Сен-Пьер.
«Какой долг его призывает?» — хотелось мне у нее спросить. Иногда, когда она спокойно проплывала мимо меня в классе, мне хотелось броситься к ней, схватить ее за полу и сказать: «Постойте-ка. Объясните, что к чему. Почему долг призывает его в изгнание?» Но мадам обращалась всегда к кому-нибудь еще, а на меня даже не глядела, словно и не предполагала во мне интереса к отъезду мосье Поля.
Неделя шла к концу. Больше нам не говорили о предполагавшемся прощании с мосье Полем; никто не спрашивал, придет он или нет; никто не выражал опасений, как бы он не уехал, не повидавшись с нами, не сказав нам ни слова; говорили о нем по-прежнему беспрестанно, но никого, кажется, не мучил этот неотвязный вопрос. Сама мадам, разумеется, его видела и могла наговориться с ним вдоволь. И что ей за дело, явится он в школу или нет?
Неделя миновала. Нам сообщили назначенный день его отъезда и сказали, что едет он «на остров Бас-Тер в Гваделупе»: призывают его туда не собственные интересы, но интересы друга. Разумеется, так я и думала.
Бас-Тер в Гваделупе… Я тогда плохо спала, но лишь только меня одолевала дремота, я тотчас просыпалась, будто кто произнес эти слова — Бас-Тер и Гваделупа — над самой моей подушкой, а то вдруг они мерещились мне, начертанные огненными буквами во тьме.
Я не могла с этим сладить, да и как сладишь с чувствами? Мосье Эмануэль был в последнее время так добр ко мне, он час от часу делался все добрее и лучше. Прошел уже месяц с тех пор, как мы уладили наши богословские разногласия, и с тех пор мы с ним ни разу не повздорили. Мир этот не явился холодным плодом отдаления, напротив, мы сблизились. Он стал чаще ко мне приходить, он говорил со мной больше, чем прежде; он оставался подле меня часами, спокойный, довольный, непринужденный, мягкий. О чем только мы не переговорили! Он расспрашивал меня о моих планах, и я ими поделилась; мысль моя о собственной школе пришлась ему по душе, он заставлял меня снова и снова развивать ее перед ним в деталях, хотя саму идею называл мечтою Альфашара.[313] Все несогласия кончились, крепло и росло взаимопонимание; мы оба ощущали родство души; привязанность, уважение и пробудившееся доверие все вернее связывали нас.