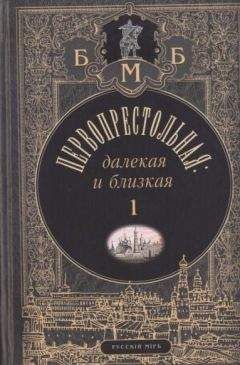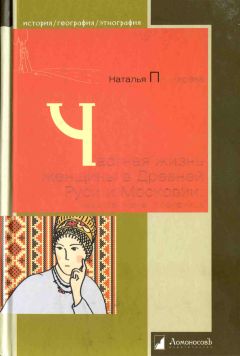Хозяин, всегда бодрый и оживлённый, встречал гостей в охотничьем наряде серого защитного цвета, не столь заметного для зорких крысиных глаз. Показав убранство квартиры, он вёл гостей в свой рабочий кабинет и, в знак особого доверия, показывал огромную рукопись плотной синей бумаги, ещё не законченную, но уже имевшую на первом листе прекрасно выписанный титул:
«Главенствующая задача Российского Дворянства в деле крысоистребления с изображением оных».
Этот труд был якобы данью общему увлечению проектами великих реформ, обильных в новое царствование.
Труд остался незаконченным. Это понятно и простительно, если принять во внимание, что его автор был не праздным болтуном, писавшим на досуге, а настоящим деятелем, почти не знавшим отдыха и лично истребившим столько грызунов, сколько не всякий садовод истребляет гусениц. И не только лично, но и способом, им изобретённым и обнаруживавшим его необычайную ловкость, смелость и предприимчивость. Этот способ, можно сказать, был и остался единственным в анналах крысоловства.
* * *
На охоту Гаврила Дмитрич выходил на заре или на закате солнца, как рыболовы. Сопровождал его дворовый оруженосец Лука, нёсший ловушки, мешок с салом и ягдташ[229]. Думать о том, чтобы охотиться поблизости от дома, было тщетным: здесь не только пасюки, но и чёрные крысы были давно истреблены начисто. Приходилось уходить в новые кварталы города, главным образом туда, где были хлебные амбары.
Придя, расставляли ловушки и гильотинки, зарядив их салом и хлебными корками. Говорили шёпотом, ступали тихо. Затем Лука садился поодаль на брёвнышко, а Гаврила Дмитрич обходил кругом строения и осматривал крысиные норы.
Наметив опытным глазом удобную и добычливую, он снимал правый сапог и обувал ногу в другой, каблук которого завершался прочным кованым гвоздём. Затем клал у отверстия кусок сала на расстоянии трёх вершков, предварительно помазав им краешек норы. Затем, твёрдо стоя на ноге левой и слабо опираясь на правую, он замирал в ожидании, не производя ни малейшего шороха и даже стараясь не моргать.
Если место было выбрано хорошо, то и ждать приходилось недолго. Привлечённая запахом сала, крыса осторожно выставляла усы, потом ноздри, потом мордочку, всё постепенно, с чуткой осторожностью. Иногда, почуяв неладное, скрывалась или очень долго не высовывала всего туловища. Неподвижно стоящего на шаг человека, прижавшегося к стене, крысы не видят; их внимание привлечено куском сала. И вот происходила борьба на выдержку, и в той борьбе всегда побеждал Гаврила Дмитрич. Когда же крыса, решив, что опасности нет, выползала из норы и подтягивалась к приманке, человек у стены делал огромный скачок и без малейшего промаха вонзал каблучный гвоздь в серо-жёлтую спину.
Это легко рассказать, но сделать так может только великий и опытнейший охотник, каким и был Гаврила Дмитрич.
Если крыса не была исключительным по величине экземпляром, то перочинным ножиком отрезался хвостик, а тело бросалось поодаль, не слишком близко к норе, чтобы не возбуждать подозрений. Затем охотник или пристраивался тут же, или шёл к другой норе.
Для кого — просто приятное развлечение, для Гаврилы Дмитрича это было как бы выполнением дворянского долга и служения отечеству. Уменьшением числа вредных грызунов он, во всяком случае, способствовал росту национального богатства, в то время как другие это богатство зря растаскивали по заграницам.
Именно это соображение и побудило нас рассказать в подробности о подвигах московского крысолова, пользовавшегося ненапрасной славой и общим уважением на рубеже двух эпох, когда либеральная мысль, разнузданная преждевременным просвещением, часто недооценивала случаи бескорыстного подвижничества представителей родов, происшедших от счастливого соединения потомков Рюрика с потомками Чингисхана.
В. Никифоров-Волгин
Московский миллионщик
По воскресным и праздничным дням стояли на паперти собора в чаянии милости два старика нищих. Один — высокий, бородатый, слепой, в замызганном коротком полушубке, в пыльных исхоженных сапогах. Другой — низкорослый, седой, губастый, с колючими весёлыми усами и всегда в подпитии. Первого величали по-почётному Денисом Петровичем, а второго забавным прозвищем — дедушка Гуляй.
Отец, указав как-то на них, горько сказал мне:
— Да, жизнь трясёт людьми, как вениками! Истинно сказано в акафисте: «Красота и здравие увядают, друзья искренние смертью отъемлются, богатство мимо течёт…» Вот стоит на паперти и руку Христа ради тянет Денис Петрович Овсянников. Лет тридцать тому назад на всю Москву и окрест страшенным был богачом! Старостой в Успенский собор выбирали, с губернаторами и архиереями чаи пил, на лучших рысаках катался, но… не удержал голубчик волговую[230] свою силу. Все миллионы на дым пустил. Во весь неуёмный лих размытарил их по московским кабакам да притонам…
— А кто такой дедушка Гуляй?
— Богоносная душа! Главный приказчик Дениса Петровича. Когда разорился и спился господин его, то он не оставил оставленного, а пошёл вместе с ним странствовать, крест его облегчать, слепоту его пестовать. Есть еще, сынок, братолюбцы на земле!
Однажды Денис Петрович в ожидании обедни сидел в соборной ограде и незрячими глазами своими тянулся к солнцу, ловя тепло его. Дедушки Гуляя не было. Бывший московский миллионщик был тих и как-то благовиден озарённым лицом своим, разветренными снеговыми волосами, смиренными руками, положенными на колени, и жалостной слепотою своею.
Я сказал ему: «Здравствуй, Денис Петрович». И он ответил тихим приветным голосом: «Христос спасёт»…
Не знаю, почему, я сразу же спросил его:
— А тебе не жалко, что ты всего богатства лишился?
Денис Петрович улыбнулся и ответил мне, как большому, мудрыми древними словами:
— Всему своё время, и время всякой вещи под небом. Время сберегать и время бросать. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа!
Он не оглянулся даже на звук моего голоса, и мне показалось, что ответил он греющему его солнцу.
В это время пришёл дедушка Гуляй. Он принёс старику хлеб и две копчёных рыбки.
— Кушай, хозяин! — сказал он весёлым, каким-то гулевым голосом, садясь рядом. — Обедня сегодня долгая. Подкрепись! Только поп да петух не евши поют, а нам невмоготу…
Дедушка помог хозяину вычистить рыбу, положил ему на ладонь, сбегал в церковную сторожку за кипятком.
— Городской голова сегодня именинник, — докладывал он, поднося чашку к губам Дениса Петровича, — двугривенный нам, раз! Марья Павловна Перчаткина панихиду служит по мужу — четвертак. Два! Заводчица Наталья Ларионовна именинница — пятиалтынный, три! Есть и прочие, которые по копейке…
— Слава тебе, Христе, Свете истинный! — восславлял Денис Петрович, разжёвывая хлеб. — Даст Господь день, даст и пищу!
Дедушка Гуляй обратил на меня внимание. Он весело подмигнул мне глазом, тоже каким-то гулевым, словно сказать хотел: «Не унывай, братишка!» От него пахнуло яблочно-хлебным духом водки и румяной деревенской образцовостью.
— Вот и хорошо!
А что хорошо, так и не пояснил, только улыбкой засветился и весёлые усы свои разгладил.
— Мальчонка тут один меня вопрошал, — отозвался Денис Петрович, крестясь после еды, — жалко ли мне сгинувшего богатства? Удивил даже… такой выросток быстрословый!.. Голос этакой думчивый… Мужиковатый, со вздохом… Тута ли он?
— Тут, Денис Петрович, рядком сидит!
— Так, так… тут сидит… Ну, и Господь с ним… пусть сидит… Это хорошо, что отрок к нам подсел… Хороший знак, добрый! Это значит, что души наши не затемнились ещё… А вот ежели дитя ал и животное бежит от человека, тогда — каюк… Беззвёздная, значит, душа у того несчастного!
От этих слов дедушка Гуляй весёлым стал и хотел обнять меня, но вместо этого дальше от меня отстранился и руками замахал.
— Близко не сиди с нами, сынок! Блошками тебя наградим. Хоть и весёлые эти блошки, но зело ехидные!
— У нас тоже блохи водятся! — похвастал я.
Так состоялось наше знакомство. В одно из воскресений я встретил на паперти одного лишь Гуляя. Хозяина с ним не было. Я спросил его:
— А где же Денис Петрович?
— На одре болезни. Отцветает мой хозяин, к земле клонится. На родину просится!
— На какую родину? В Москву?
— Нет, — вздохом ответил дедушка, — в пренебесное отечество, на пажити[231] Господни!
Вспомнились мне смиренные руки его и почему-то пыльные разношенные сапоги его, и стало жалко бывшего миллионера. Слова матери вспомнились: кто болящего навестит, тому Матерь Божья улыбнётся!
— Можно его навестить? — спросил я Гуляя.
Незнамо отчего, на глазах дедушки затеплились слёзы и заулыбался он от неведомой радости разными светами, как драгоценный камень.