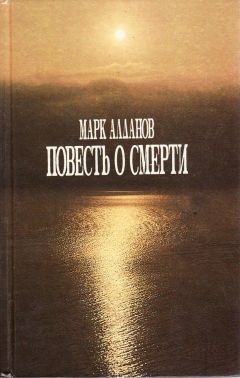Эти слова прежде всего ни в какой мере не новы: мы их, слава Богу, второй год ежедневно читаем на столбцах газеты «L'Humanite». Они верны в применении к одной — не слишком влиятельной — части русской эмиграции; подаются же они Уэлльсом, так же как Кашеном, в форме чрезвычайно широкого и смелого обобщения. Это о нас fabula narratur — и очень скверная fabula, и даже не rnutato nomine: все мы не знаем, чего хотим, не заслуживаем ничего лучшего, чем царь, и, чтобы скрыть собственное убожество, рассказываем бесконечные истории о каких-то большевистских зверствах. (Уэлльс ставит, разумеется, последние два слова в кавычки).
По тону своему, отрывок, приведенный бар. Б.Э. Нольде, несколько выделяется из книги английского путешественника. Она вообще поражает эпическим спокойствием стиля. Уэлльс почти обо всем говорить совершенно одинаково: о том, что Петербург умирает с голоду и, вероятно, скоро вымрет, и о том, что госпожа Шаляпина не знает, какой фасон платья принят теперь на Западе («последние, полученные ею модные журналы, — замечает сочувственно Уэлльс, — были от начала 1918 г. — вследствие блокады»). Хладнокровие совершенно покидает писателя лишь в оценке одной из сторон советской жизни. Именно его чрезвычайно раздражает Карл Маркс и особенно борода последнего, ныне красующаяся чуть ли не во всех присутственных местах и участках большевистской державы. Бороде Карла Маркса отведены Уэлльсом две — забавные и остроумные — страницы: он утверждает, что такая борода, явно мешающая работе, не могла вырасти у человека сама собой; владелец, очевидно, непрестанно и с любовью культивировал бороду с тем, чтобы патриархально раскинуть ее на весь мир. Уэлльс выражает даже страстное желание побрить знаменитого социалиста. Но, кроме бороды Карла Маркса английский писатель не нашел в Советской России никакого другого повода для выражения своего возмущения. К России не-советской он значительно строже. Так на стр. 83 Уэлльс с большим негодованием говорит о возможности у нас в будущем разбойничьего монархического правительства, которое неизбежно приведет страну к белому террору. А на стр. 68 он очень спокойно рассказывает, как в квартире Максима Горького дружелюбно слушал философско-политическую беседу «Бакаева, главы петербургской чрезвычайной комиссии»… Мы за последние годы видали всякие виды. Но более зловещего симптома падения моральной культуры, чем эта дружеская беседа двух знаменитых писателей с шефом Чрезвычайки, я что-то, признаюсь, не запомню.
Уэлльс не всегда отличался такой терпимостью «налево». Было время, когда он величал английских социалистов карманщиками (pickpockets). В каком виде выведен, под прозрачным псевдонимом, Сидней Уэбб в книге Уэлльса «Новый Маккиавелли», об этом, пожалуй, лучше не вспоминать. Невольно себя спрашиваешь, откуда взялось у резкого и непочтительного по темпераменту писателя, посетившего и описавшего наудачу несколько камер советского ада, столь своеобразное отношение к хозяевам и устроителям последнего.
Года два тому назад А.А. Титов и пишущий эти строки имели в Лондоне разговор с Уэлльсом. Автор «Бритлинга» в то время чрезвычайно интересовался ходом гражданской войны в России; он притащил географическую карту, по которой А.А. Титов подробно описал ему линию прохождения фронта. Но тогда Уэлльс был занять русскими событиями главным образом с военной точки зрения. Нервно бегая по комнате, он развивал свои стратегические соображения: по его мнению, решающую роль в войне генерала «Динайкина» с большевиками должны были сыграть аэропланы, — и Уэлльс чрезвычайно подробно и наставительно это нам объяснял, хотя мог знать, что мы люди штатские, ни к «Динайкину», ни к большевикам непричастные и в деле воздушной войны мало осведомленные. Мы слушали стратегические указания Уэлльса с тем же интересом, с каким толстовские мужики внимали советам Вово Звездинцева — сеять возможно больше мяты. «Двистительно… всякий плант можно сеять… можно сеять и мяту»… Можно употреблять и аэропланы.
Впрочем, военные указания английский романист давал не только нам. Из недавней книги о нем одного из его самых горячих поклонников (Гюйо) мы узнаем, что во время Великой Войны Уэлльс «обменялся несколькими идеями относительно ведения операций с генералами Жоффром и Кастельно, которые выслушали его мысли с удовольствием», — по выражению поклонника, где чистосердечие граничит с коварством. Нам, стало быть, сам Бог велел сделать то же самое. Мы, однако, попытались перевести разговор на темы философско-политические. Уэлльс со свойственным ему неподдельным юмором объявил, что его политические взгляды зависят главным образом от состояния его печени (отсюда можно сделать вывод, что во время русской поездки Уэлльса его печень была в самом лучшем состоянии); но тем не менее он высказался — и очень остроумно.
— Мы сейчас в Англии, — сказал он, — переживаем полосу крайней реакции. Ею руководит, разумеется, Ллойд-Джордж. Но через год или два у нас начнется полоса крайнего радикализма. Руководить им будет, разумеется, тоже Ллойд-Джордж.
Я потому цитирую это (отчасти уже оправдавшееся) замечание блестящего писателя — из ряда других, не менее остроумных, — что, быть может, в нем высказан существенный мотив его нынешних настроений в вопросе о большевистской власти. Мы очень недовольны русской политикой Ллойд-Джорджа. Пожалуй, у нас больше оснований быть недовольными его английской политикой. Ибо чувства, которые «колдун» (так в Англии называют нынешнего премьера) внушает большинству передовых англичан, таковы, что многие из последних готовы чувствовать симпатию даже к большевикам. Казалось бы, чем мы виноваты, что ими правит Ллойд-Джордж?
Помню, незадолго до разговора с Уэлльсом, мы с тем же А.А. Титовым и Я.О. Гавронским были в гостях у одного английского политического деятеля, — левого направления и весьма энергичного темперамента. Этот человек занимается политикой лет сорок, по рождению принадлежит к правящим группам Англии и знает всех ее политических деятелей, можно сказать, наизусть. Нисколько не стесняясь в выражениях, несмотря на присутствие иностранцев, он дал такую сочную характеристику Ллойд-Джорджа, что ее, пожалуй, в печати огласить было бы неудобно; заодно коснулся и ближайших сотрудников премьера.
— Подобных политических деятелей, — сказал он, — у нас не было с тех пор, как существует Англия. Во всем этом кабинете только и есть один порядочный человек- Бальфур. Он — лентяй и скептик, как все Сесили. But he is a gentleman, — он джентльмен. А остальные…
Дальше опять следовали сочные выражения.
«Ллойд-Джордж — тип из Теккерея», — недавно писал один публицист, возбужденный нашумевшей речью премьера об эволюции русских большевиков. Да публицист-то, кажется, Теккерея не знает. У знаменитого английского писателя таких типов не было. Но для будущих Теккереев Ллойд-Джордж, вероятно, представит большой интерес. Им в первую очередь придется выяснить вопрос, в чем была сила этого государственного человека начала 20 столетия.
Биографы Ллойд-Джорджа утверждают, что успехом он обязан, прежде всего, своему большому ораторскому таланту и блестящему остроумию. Это возможно, хотя относительно остроумия в современной Англии, по-видимому, существует представление, нам не совсем понятное. Так, вышеупомянутая речь премьера, независимо от ее содержания, по своей форме и юмору была почти всей английской прессой отнесена к числу шедевров. Успех ее в парламенте оказался тоже необычайным. Признаюсь, однако, что я усиленно, но безуспешно старался улыбнуться в тех местах этой речи, где газетный отчет свидетельствовал о «бурном смехе»: и «Ленин рассчитывал прежде на теории Карла Маркса. Но России нужно починить локомотивы. Теориями Карла Маркса нельзя чинить локомотивов!» (Бурный смех). Остальные остроты в том же роде. Вот что считается теперь остроумием в стране Свифта и Оскара Уайльда. То обстоятельство, что о Марксе и Ленине рассуждает человек, не читавший ни Маркса, ни Ленина, уже давно ни в ком удивления не вызывает.
Нет, по-видимому, не в юморе и не в ораторском таланте — или, по крайней мере, не в них одних — заключаются сила и обаяние этого странного человека. Кейнс в третьей главе своего знаменитого труда, заключающей художественное описание (с натуры) быта и психологии парижской конференции мира, говорит о «безошибочной, почти медиумической чувствительности Ллойд-Джорджа к окружающей среде», об его «шести или семи лишних чувствах, недоступных обыкновенным людям». По словам Кейнса, английский премьер каким-то «телепатическим инстинктом» угадывает характер, мысли, желания, ощущения своих собеседников, и мгновенно, почти бессознательно находит самый верный путь к их слабостям и тщеславию… Я не берусь судить о Кейнсе, как экономисте. Но несомненно, что автор «Экономических последствий мира» — тонкий ценитель и знаток людей, которому впору писать не политические книги, а художественные произведения. Нельзя забыть его описания конференции: образ «медиума» Ллойд-Джорджа; фигуру медленно и тяжело думающего президента Вильсона; их разговоры и споры, в которых оба собеседника забывали днем то, что говорили утром, и соперничали друг с другом в невежестве (или, как мягче выражается Кейнс, в «неосведомленности»). Из этих бесед, по словам Кейнса, медленно думающий президент неизменно выходил и не мог не выходить побежденным. А на обоих спорщиков, с высоты своей огромной умственной культуры и своего совершенного презрения к людям, изредка вставляя циничные замечания, смотрел Клемансо, ни во что не верящий автор «Завесы счастья». «В своих неизменных серых перчатках, со своей сухой душой и с полным отсутствием надежд, очень старый и очень утомленный, он глядел на эти сцены с видом циничным и почти дьявольским»… Все это, повторяю, незабываемо.