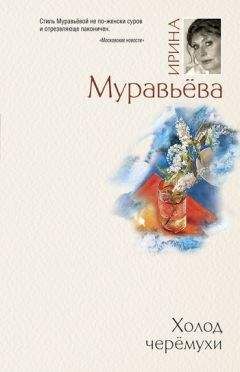Так же, как и ему, им тоже хронически не везло.
По-разному вспоминается прошедшее чувство.
Кому-то представляется отдельная минута, а Мандельштам видел такую картину: ему казалось, что он очень старается, но все никак не может завязать шнурки.
О шнурках
Мандельштам умеет хорошо прятать свои переживания. Вот и мысли о Лютике он поместил туда, где их не так-то просто отыскать.
Ничто не предвещало такого места в «Египетской марке». Как-то уж слишком неожиданно он оказался в ситуации двадцать пятого года.
Так бывает, когда человек идет и вдруг поскальзывается.
Первая реакция - замешательство: «Я то и дело нагибался, чтобы завязать башмак двойным бантом и все уладить, как полагается, - но бесполезно».
Дальше события развиваются как бы без его участия: «Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить: все шло обратно, как всегда бывает во сне».
А затем все начинается сначала: «Я разметал чужие перины и выбежал в Таврический сад, захватив любимую детскую игрушку - пустой подсвечник, богато оплывший стеарином, - и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата.
На прямой вопрос он бы не ответил, а тут рассказал все. Вот так открываются случайным попутчикам. Как видно, будучи неузнанным, легче выговориться до конца.
Кто такой читатель, как не случайный попутчик? Потому-то и можно быть с ним откровенным, что он никогда не признает в персонаже автора.
Не упустив ничего, Мандельштам сжал рассказ до нескольких опознавательных знаков. В один ряд попали и забытые надежды, и такие совсем никчемные вещи, как оплывший стеарином подсвечник.
Словом, предложение оказалось на удивление вместительным. Прямо-таки не абзац, а целая повесть со своим сюжетом и разнообразными обстоятельствами.
Тут и чужие перины, и позорное бегство, и даже сожаление о несостоявшейся женитьбе.
После запятой и тире начинался этакий вздох облегчения. Кажется, Осип Эмильевич сначала набирает воздух в легкие и только потом завершает мысль.
Кстати, вздох действительно имел место. В Царском Селе, где вскоре поселилась чета Мандельштамов, в самом деле дышалось иначе.
Такова настоящая длина этой фразы. Из дома на Таврической улице она переносит нас на чистый воздух «города парков и зал».
Удивительная Лютик
Иногда этой женщине, ценившей велосипед за возможность конкурировать с трамваем, очень хотелось стать как все.
Возможно поэтому осенью 1924 года она решила поступить в студию ФЭКС под руководством режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга.
ФЭКС - это Фабрика эксцентрического актера. В переводе на общепонятный язык что-то вроде расширенного воспроизводства людей, умеющих то же, что их товарищи.
Участники любой дружной компании стремятся походить друг на друга. А вот в кинокомпании это еще и такое требование: если уж ты назвался фэксовцем, то просто обязан фехтовать, быть гимнастом и акробатом.
«Наши молодые режиссеры, - писала Лютик, - были очень смелы и убеждены в своих начинаниях, очень требовательны к ученикам и имели много врагов среди кинематографистов. Действительно, они вели себя довольно вызывающе. Посетители наших вечеринок могли читать такие лозунги: «Спасение искусства в штанах эксцентрика». Потом слова гимна ФЭКСа звучали так: «Мы все искусство кроем матом. Мы всем экранам шлем ультиматум»».
Другой судьбы, не под руководством Козинцева и Трауберга, для студийцев быть не могло. И грустить им позволялось только на общие с товарищами темы. Правда, после поступления в студию времени на постороннее не оставалось.
Словом, в Лютике много чего соединялось.
Она была «чертовски компанейской девушкой», лучшей ученицей по «боксу» и «американским танцам».
А могла промчаться мимо - этакий ангел, летящий на велосипеде, носитель данного ей свыше «ощущения личной значимости».
И в стихах ее преобладали крайности: то какие-то превосходные степени, а то, напротив, тишина.
Вот, например, она рассказывает о своей тревоге:
Как твердо знаю я, что не во мне
Очарование и встреч, и расставаний,
Угадываю с ужасом заранее,
Кто имя это проклянет в огне…
Все тяжелей запутываюсь в жизни,
Все старше бедная, усталая душа,
Когда смеюсь, отчаяньем дыша,
Бросаемой безвольно укоризне.
И только молодость, лишенная любви,
Трепещет в непростительной надежде,
Что смерть близка, но подойдет не прежде,
Чем скажешь милому, прощаясь: позови!
А это, напротив, стихотворение умиротворенное, написанное в редкую минуту согласия с собой:
Ущипнул мороз исподтишка
Мне совсем не больно, не обидно,
Только жалко, что уже не видно
Розовато-медного кружка.
Звонкие, задорные слова…
Справа тоненькая белая подковка…
Ты мне поднял воротник неловко,
Оглянулся… и поцеловал.
Кстати, ни этих и никаких других своих стихов Лютик Осипу Эмильевичу не показывала. Слишком сложны и не выяснены были их отношения, чтобы быть настолько откровенной.
Впрочем, случались у поэта и его подруги часы тихих бесед.
Как далеко заходили их разговоры?
Всего сказать невозможно, но крайнюю точку обозначим.
Лютик и тишина
Существует такая косвенная улика.
В возрасте трех-четырех лет Лютик сфотографировалась в царскосельском ателье Гана.
На девочке белая шляпа с широкими полями. В таком наряде легко представлять себя принцессой на горошине, капризничать, требовать чего-то невозможного.
Лютик предпочитала невозможное не требовать, а воображать. Благо в кабинете отчима есть огромная тахта. Вот где простор для фантазии: «…иногда тахта изображала корабль в открытом море, иногда - дом и сад для моих медведей (в куклы я никогда не играла)».
На фото она мило улыбается и нежно прижимает к себе игрушечного медвежонка.
Получается, что Осип Эмильевич все знал. и о фотографии, и о тахте, и о ее играх. Даже об игрушке, чуть ли не главном друге царскосельских лет, она ему рассказала.
Так медвежонок стал частью триединой формулы, которую вывел Мандельштам.
В стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» он увидел ее человеком, не ушедшим от прошлого, но сохранившим его в себе.
Вот откуда эти «Дичок, медвежонок, Миньона» - девочка, девушка и женщина в одном лице.
Поэт безусловно чувствовал в ней нераскрывшуюся до конца способность к покою.
Сначала он сказал о «сухих валенках», а через десятилетие о «Шуберте в шубе», то есть о тишине, выраженной с помощью музыки.
И еще в этом стихотворении он называл Шуберта талисманом, а значит - спасением и надеждой.
Лютик и огонь
Мы уже сказали о ребенке с любимой игрушкой, а теперь поговорим о другой крайности.
С точки зрения Осипа Эмильевича, даже после смерти Лютик существовала как беззаконная комета. Возможно, ему представлялась та дама, что летала по небу с помелом.
И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
холодной стокгольмской постели.
Ко всему прочему, она казалась ему воплощением огня.
Даже обсуждавшаяся ими обоими женитьба связывалась для него с огнем.
Помните «подсвечник, богато оплывший стеарином» и «белую корку, нежную, как подвенечная фата»?
Вскоре он скажет и о пожаре.
Уже выгоняет выжлятник-пожар
Линеек раскидистых стайку…
Вот почему в тридцать пятом году Мандельштам написал не одно, а три стихотворения.
Сперва - два, а потом - еще четыре строчки, названных комментаторами дополнением.
Никакое это не дополнение, а - эпилог!
Если первые два - теза и антитеза, то последнее, конечно, синтез.
Здесь говорится о том, что помимо двух Лютиковых ипостасей - тишины и скандала - существуют еще и ночи.
Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно…
Почему «ночи» оказались в одном ряду с «лоном»? Не имеют ли они отношения к чужим перинам, от которых Мандельштам бежал по Таврическому саду?
Как обычно, самое важное Осип Эмильевич прячет. и сейчас он проговаривался от чужого имени. Это уж мы догадались: если Лютик - Миньона, как и героиня Вильгельма Мейстера, то Гете - он сам.
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.
Лютика все больше упрекали в пренебрежении приличиями: зачем пьет водку наравне с мужчинами? для чего ходит по дому в прозрачных одеждах? - а Мандельштам написал о законе.