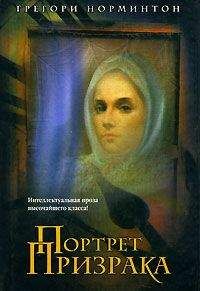— Что, уже нельзя во всеуслышание объявлять, что королевский конь гадит? Ах да, он же королевский — он не гадит, а пресуществляет 21 сено в навоз. А надлежит ли сотворять себе кумиров из гончих собак его величества?
— Господин Дигби! Ваш гнев не извиняет ваших непристойностей! А ваши принципы звучат скорее желчно, чем пылко и яростно… Я желаю тебе добра, Томас. Я помолюсь за успех твоего дела. Но я не поеду с тобой.
— Натаниэль… когда-то ты звал меня братом.
— Тогда прими от меня братский совет. Научись держать в узде свой гнев и свой язык. Они еще послужат тем самым беднякам, которых ты без всяких оснований презираешь, — а вот тебя они могут стереть с лица земли.
— Я никого не презираю.
— И эта твоя надежда будет обманута.
Натаниэль звонит в колокольчик. Лизи появляется так стремительно, что по огонькам свечей пробегает трепет, а Дигби вздрагивает. Должно быть, она слышала всю его брань, до последнего слова. По ее склоненной голове и бледности щек он заключает, что она напугана.
— Разбудите Фредерика, — велит ей хозяин без тени учтивой доброты. — Скажите ему, господин Дигби сегодня ночью будет нашим гостем.
— Хорошо, сэр.
— Ты велел разбудить того старика?
— Он должен делать свою работу, — резко отвечает Натаниэль и, сопя, отряхивает одежду. Под его глазами лежат глубокие тени от усталости, ранее Дигби не замечал их. — Завтра мы вернемся к разговору. При свете дня этот диспут покажется не таким ужасным.
Ненадолго они замирают: Натаниэль устало и грузно стоит в дверях. Томас застыл в своем кресле, как наказанный школьник.
— Доброй ночи, господин Дигби.
— Хорошего сна… господин Деллер.
Сегодня ночью все точно так, как уже бывало не раз с той поры, как отец потерял зрение. За окном раздается уханье совы. Синтия подходит к окну кухни и осторожно открывает створку, стараясь не спугнуть птиц, если те окажутся поблизости. Ночная прохлада освежает ее лицо. Снова слышится одинокий совиный крик, и Синтия вспоминает, как совсем еще девочкой она лежала в кроватке и слушала уханье сов, а отец работал в соседней комнате. Ей был виден свет под дверью, было слышно позвякивание кистей о стенки стакана с водой. И каждый раз, как ухала сова, она вскрикивала, ожидая, что на этот тихий крик к ней придут и ее утешат. Но никто не приходил, и утешения не было. Няня спала в измятой, дурно пахнущей ночной рубахе.
Но вот где-то далеко, должно быть, в лесистой долине перед склоном бесплодного холма, ухающей сове откликается другая. Сад погружен во тьму. Смутные очертания подстриженных кустов, обваливающиеся стены, деревца лаймов и стволы ясеней под тяжестью летней кроны — все словно зачарованы этой скорбной песней. Да можно ли назвать ее песней? Поэт ошибался, сумев расслышать лишь «ух-их, у-ху» 22. Совы не просто ухают, они ведут разговор. Словно подтверждая это, ближняя сова снова кричит, и на сей раз Синтия понимает откуда: с разросшегося дуплистого дуба, который она в детстве звала волшебным деревом, завороженная множеством отверстий от жучиных ходов, которые испещряли весь ствол. Синтия воображает, будто сад держит на широкой зеленой ладони и этот дуб, и птицу на нем. Она накрывает огарок свечи глубокой миской, чтобы свет не нарушал очарования ночи. Близкий перерывистый звук обращает ее внимание в сторону грядок. Похоже, в зарослях крапивы возятся то ли крысы, то ли мыши. Где-то возле заросшего пруда пронзительно кричат спаривающиеся лисицы. Наконец Синтия закрывает окно и возвращается на свое обычное место у стола.
Плащ Уильяма Страуда висит на спинке стула, где он и оставил его. Она тянется было счистить с его кожаной поверхности присохшие глину и грязь, но, опомнившись, оставляет плащ, не трогая. Хранит ли этот плащ его тепло, думает она. На столе — его шляпа для верховой езды, она поглаживает ее, будто спящую кошку. Хранит ли она память о том, кто ее носит? Она воображает Уильяма и как он сейчас беседует наверху с ее отцом, тогда как ей приходится обойтись обществом en верхней одежды.
Вдруг Синтия прижимает руки к груди. Она и не заметила, что сидела затаив дыхание — о том, что надо дышать, ей напомнила боль в груди, усиленная корсетными пластинками из китового уса. Она уже жалеет, что разбудила Лиззи, чтобы та затянула ее в корсет. Переодеваясь, она всецело доверила себя рукам служанки. Лишь заливалась краской волнения, когда Лиззи туго затягивала шнурки, делая вид, будто не замечает, как у Синтии перехватывает дыхание. Синтия быстро и осторожно в третий раз поправляет сахарные булочки на оловянном блюде, проверяет чистоту бокалов и пересчитывает вишенки в бутылке шерри…
Там, у двери в кабинет отца, Уильям почти коснулся ее руки. Она видела, как он потянулся к ней и как почти немедленно изменил свое намерение. Хвала небу, она сумела скрыть испуг. А может быть, увы, что сумела.
Сегодня ночью, как и всегда, она проводит много времени в молчаливом ожидании на кухне. Отыскивает среди горшочков самшитовый гребень, который принесла вниз как раз перед приездом Уильяма, — говорят, самшит возвращает прядям их красоту. Она причесывается насколько можно хорошо, принимая во внимание отсутствие зеркала и горничной. Ощупав скрученный на затылке пучок, она чувствует, что он вот-вот рассыплется, словно ветви растущего в саду дикого лавра. Ничего, это все суета.
Неожиданно на нее наваливается глубочайшая усталость, даже перед глазами все плывет. Она садится к столу и, сложив на нем руки, ждет, пока стены перед ней перестанут медленно кружиться. Плита пыхтит и хрипит. Наконец оправившись, она поднимает нагруженный поднос и поднимается по лестнице для прислуги, стараясь не споткнуться и ничего не расплескать.
Потом она идет по длинному коридору со скрипящими половицами, преодолевая пустоту и полумрак. Приблизившись к двери отцовского кабинета, Синтия самым неженственным образом упирается одним коленом в стену, ставит на него поднос и стучит. Изнутри слышны торопливые шорохи, словно она явилась в тайный орден в разгар совершения обрядов. Члены его убирают алтарь, прячут потиры и курильницы. Прислушавшись, она различает свистящий шепот отца, отдающего приказания, шорох быстрых движений повинующегося ему Уильяма Страуда и не может сдержать улыбку.
— Минутку! — доносится из-за двери.
Синтия ждет, пока за дверью прячут некие таинственные и запретные предметы; затем входит и застает Уильяма отступающим от завешенной картины, а отца — сидящим на своем месте с выражением по-детски упрямого простодушия на лице. «Так вот она», — думает Синтия, старательно избегая смотреть в сторону картины. Ставя поднос на стол, она придает себе безмятежный вид и, склонившись, начинает разливать шерри. Теперь каждый в этой небольшой комнате притворяется перед другими. Уильям возвращается к своему креслу и смотрит на нее. Она спиной чувствует его неотрывный взгляд, не ледяной, как смотрят незнакомцы, а теплый, как его дыхание. Ей приходится сделать над собой усилие, чтобы не пролить вино мимо бокала.
— Ваш сад… — Уильям Страуд откашливается. — Вы хотели бы запечатлеть его на холсте?
— Hortusconclusus23 В переломные времена, времена раздоров сад означает порядок, покой, изобилие. Он всегда был для меня убежищем от безумия этого мира.
Не говоря ни слова, Синтия берет отца за руки и подводит его раскрытые ладони к тарелке с сахарными булочками. Она надеется, что он хоть немного поест. Неделю за неделей его аппетит все хуже; он непрестанно жалуется, что от еды его мутит. Сегодняшний kandeel и сахарные булочки, равно как и голландские бисквиты, и прочие потворства его любви к сладкому, — она старается почаще радовать его хотя бы этим. Потаканием его вкусам она надеется задержать его в этом мире еще хоть ненадолго.
— Спасибо, моя милая.
— Бокал я поставила прямо перед тобой.
— Вложи его мне в руку. Булочку я съем попозже.
— Обещаешь, отец?
Он тут же выходит из себя и в раздражении отталкивает ее руки. Синтия покорно забирает у него тарелку и вкладывает ему в пальцы бокал. Господин Деллер, похоже, недоволен собственной недостойной вспыльчивостью. Он кривится — то ли от стыда, то ли шерри щиплет ему губы. И он поспешно возвращается к прежней теме:
— Мой сад… Жена так любила его. Я часто писал или рисовал его, я сделал много эскизов для собственного удовольствия: буйные кроны лип, аккуратные клумбы. Увитая зеленью беседка, где даже тени становятся зеленоватыми. Вы ведь знаете, рай — это сад. Мы и в последнее время часто гуляли по саду, слушая птиц. Ведь так, Синтия?
— Я вела тебя под руку.
— И рассказывала мне обо всем, что видела вокруг. Парадокс, достойный Ланселота Эндрюса 24. Все говорили, что у Синтии мои глаза, и вот теперь она и вправду стала моими глазами.