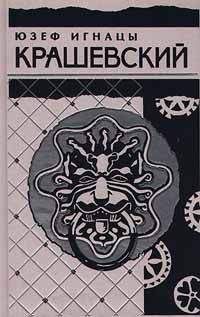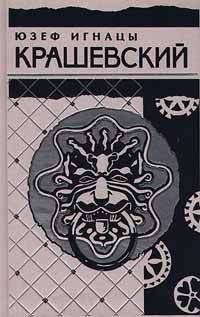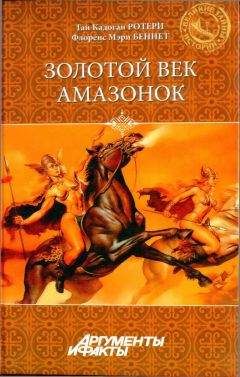Брюль улыбнулся.
— Конечно, с какой же стати работать в поте лица даром!
— И взять на душу столько проклятий.
— Ну, что касается проклятий, Бог не слушает этих голосов. Король должен же иметь все, что ему нужно.
— А мы — что следует, — прибавил Геннике. — Воздадите Божие Богови, кесарево кесареви, а сборщиково — сборщику.
Брюль в раздумьи остановился перед ним и после короткого молчанья сказал тихо:
— Поэтому-то имей глаз открытым, ухо внимательным, работай и за меня, и за себя, доноси мне обо всем, что нужно: у меня и без того столько хлопот в голове, что ты мне положительно необходим, и я один не слажу со всем этим.
— Положитесь на меня, — возразил Геннике. — Я отлично понимаю, что, трудясь для вас, я тружусь для себя самого. Я не обещаю вам платонической любви, потому что так, кажется, называют, если кто целует перчатку. Каждое дело должно быть предварительно выяснено. Я буду помнить о себе, буду помнить о вас и короля не забуду.
Он поклонился, и Брюль, похлопав его по плечу, прибавил:
— Геннике… Я помогу тебе высоко подняться.
— Только не слишком и не на новом рынке [13].
— Об этом не беспокойся. А теперь, мой мудрец, какой ты мне дашь совет? Как удержаться при дворе? Войти на лестницу — вещь не великая, но не свалиться с нее и не свернуть шеи — это похитрее.
— Я могу вам дать только один совет, — начал бывший лакей. — Все нужно делать через женщин. Без женщин ничего не сделаете.
— Положим, — возразил Брюль, — есть другие пути.
— Я знаю, что вы, ваше превосходительство, имеете за собой падре Гуарини и отца…
— Тс, Геннике!
— Я молчу, а все-таки, прибавлю, пора вашему превосходительству подумать и о том, что власть женщины много значит: никогда не помешает иметь запасную струну.
Брюль вздохнул.
— Я воспользуюсь твоим советом, оставь это уж мне. Оба замолчали.
— В каких отношениях находитесь вы с графом Сулковским? — шепнул Геннике. — Не нужно забывать, что солнце заходит, что люди смертны и что сыновья заступают на место отцов, а Сулковские Брюлей.
— Этого нечего бояться, — улыбнулся Брюль, — он мне друг.
— Мне бы более было желательно, чтобы его жена была вашим другом, — заметил Ганс, — на это я больше бы мог рассчитывать.
— У Сулковского благородное сердце.
— Не спорю, но каждое сердце благородное более любит ту грудь, в которой оно бьется, чем всякую другую… Ну, а граф Мошинский?
Брюль вздрогнул и покраснел. Он быстро взглянул на Ганса, как бы желая прочесть, сказал ли он эту фамилию с задней мыслью.
Но лицо Геннике было спокойно и представляло олицетворенную невинность.
— Граф Мошинский не имеет никакого значения, — прошипел Брюль, — не имеет и никогда иметь не будет.
— Его величество выдало за него замуж собственную дочь, — медленно произнес Геннике.
Брюль не сказал ни слова.
— У людей злые языки, и поговаривали, — начал опять Геннике, — что панна Козель предпочитала бы иметь мужем кого-то Другого, а не графа Мошинского.
Сказав это, он взглянул в глаза Брюля, который молчал, надменно подняв голову.
— Да, — крикнул он, — да! Он вырвал ее у меня своими интригами, он вымолил ее!
— И оказал этим вашему превосходительству величайшую в мире услугу, — рассмеялся Геннике. — Старая любовь не ржавеет, говорит наша пословица. Вместо одной пружины, вы можете иметь обе.
Они взглянули друг другу в глаза, и по лицу Брюля пробежала тень.
— Будет об этом, — сказал он. — Итак, Геннике, ты мой, рассчитывай на меня. Являйся ежедневно в шесть часов через черные двери… Завтра ты вступаешь в должность и здесь, у меня, будешь иметь канцелярию.
Геннике поклонился.
— И получу первое жалование, соответствующее труду.
— Да, если подумаешь, чтобы было чем заплатить.
— Это мое дело.
— Ну, теперь прощай, уже поздно.
Геннике поцеловал его в плечо и положил руку на сердце, а потом медленно, тихо и незаметно вышел из комнаты. Брюль нетерпеливо позвонил. Тотчас же вбежал испуганный камердинер.
— Во дворце бал начинается через полчаса. Носилки?
— Стоят внизу.
— Домино? Маска?
— Все готово.
Говоря это, камердинер отворил двери и повел Брюля в гардеробную.
Уже тогда эта комната могла считаться особенностью столицы. Кругом у стен стояли большие резные шкафы, в данную минуту все отворенные. Между двумя окнами, которые были занавешены, стоял покрытый стол на бронзовых ногах, а на нем большое зеркало в фарфоровой узорной раме, на которой были изображены цветы и херувимы; вокруг него зимой и летом цвели розы, обвивал его плющ и нагибал свои головки ландыш, из зелени выглядывали вечно смеющиеся головки сотворенных искусством существ, которых неизвестно как следует назвать; ангелами ли, амурчиками, птичками или цветками? Наверху сидело их двое: оба бедные, нагие, как их Бог сотворил, и горячо обнимались, желая позабыть о своей нищете; хотя на плечах у них и были крылышки, но они уже не желали летать.
На этом столе перед зеркалом стоял целый прибор для туалета, как бы у женщины. В шкафах виднелись полные костюмы, начиная от башмаков и шляпы, кончая часами и шпагой; а все это было размещено в величайшем порядке. Мода и обычай требовали, чтобы все сменяли свою наружность и сходились в одном месте, как бы рожденные внезапно, благодаря одному мановению руки какого-нибудь чародея.
На сегодняшний вечер не столько был необходим костюм, сколько домино. В отдельном шкафу лежали различные маскарадные принадлежности, висели плащи, шляпы, капюшоны и домино. Брюль остановился, недоумевая, что выбрать. Конечно, это был важный шаг. Король любил, чтобы во время маскарада гости не узнавали друг друга. Может быть, и Брюль не хотел, чтобы его тотчас узнали. Камердинер, следующий за ним с двумя свечами, ожидал приказания.
Быстро повернулся новый директор.
— Где тот костюм венецианского дворянина, которым я не успел воспользоваться в декабре?
Камердинер подбежал к шкафу, стоящему в углу и закрытому дверцей другого, рядом стоящего шкафа. Брюль тотчас заметил черный бархатный костюм.
Он начал быстро одеваться. Платье сидело великолепно, и в нем юноша казался еще благороднее, величественнее и ловчее. Все положительно было черно, даже перо при шляпе и покрытая лаком шпага.
На груди только сияла тяжелая золотая цепь, на которой Брюль повесил медаль с изображением Августа Сильного.
Так одевшись, он осмотрел себя в зеркале и надел на лицо полумаску. А для того, чтобы еще более быть неузнаваемым, он приклеил на чисто выбритом подбородке испанскую бородку, которая казалась совершенно натуральной и могла обмануть даже хороших знакомых. Он переменил перстни на пальцах, повернулся несколько раз и начал быстро спускаться с лестницы.
Портшез, так назывались тогда носилки, стояли в сенях. Двое носильщиков были уже заранее переодеты по-венециански, в красных шерстяных шапках на голове и бархатных накидках на плечах. У обоих тоже были маски на лице. Лишь только спереди носилки были заперты и опустились зеленые занавески, как носильщики подняли их вверх и побежали по направлению ко дворцу.
У главных ворот стояли гвардейские часовые и не впускали никого, кроме экипажей знатных и богатых носилок. Народ толпился, но часовые отталкивали его, подставляя свои зубчатые секиры. Одни за другими въезжали освещенные факелами экипажи и носилки. Во дворе набралось уже множество прислуги. Дворец словно горел бесчисленными огнями, так как в этот день гостей принимали два двора и два хозяйства. У одного стола — сам король, у других — сын его с супругой. Из залы короля в залу королевича вел целый ряд освещенных комнат, в которых уже через окна можно было видеть тени снующих масок. Носилки Брю-ля остановились у подъезда, двери которого распахнулись, и венецианский дворянин, точно настоящий сын дожа, выскочил из носилок. В минуту, когда он начал подниматься на каменную, покрытую коврами лестницу, Бог знает откуда появилась фигура другого итальянца, но совершенно другого рода. Это был мужчина в маске, на целую голову выше Брюля, плечистый, сильный, держащий себя прямо, как воин; грудь у него выдалась вперед, одет он был отлично и точно сошел со старой картины Сальватора Розы. В этом костюме он был великолепен, как будто он для него только и был сотворен.
На голове у него был надет шлем, без забрала, на груди панцирь, который испещряли изящными узорами золотые жилки; короткий плащ на плечах, шпага с боку и кинжал у пояса довершали костюм. В руке он держал надушенные перчатки, а на белых пальцах сияло несколько перстней. На лице у него была удивительная и странная маска, страшная и суровая, с длинными усами и клочком волос на бороде. Брови, изогнутые в виде буквы S, сходились в середине и переходили в морщины. Брюль только взглянул на эту отталкивающую маску и стал подниматься на лестницу, но итальянец, очевидно, хотел его догнать и вступить в разговор.