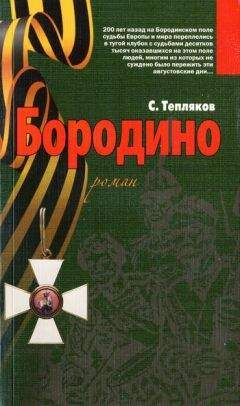– Григорий, а где же ваш Пантелей? – спросил Муравьёв. Пантелей был у Мейндорфа слугой.
– Потерялся вчера в темноте у Шевардина… – озабоченно отвечал Мейндорф. – Как бы не убили – живой-то уже должен придти…
– Необходимость бриться – одна из мужских горестей… – весело проговорил Николай Муравьёв. Сегодня ноги его напоминали о себе меньше обычного, да ещё и не кончилось вчерашнее возбуждение – у Николая было ощущение, что жизнь едва ли не прекрасна. – Говорят, что английский щеголь Браммел после бритья ещё и выщипывает у себя на лице то, что не зацепила бритва…
– У Браммела три парикмахера – для лба, для затылка и для висков… – сказал Мейндорф, чтобы отвлечься (бедро болело). – А сапоги ему полируют шампанским.
Тут они с Муравьёвым одновременно посмотрели на свои сапоги – давно серые и бесформенные от многодневной грязи – и захохотали.
– Братец, одолжишь бритву? – обратился к Николаю Александр Муравьёв, в панталонах и рубахе, весь в каплях воды после умывания. – Я свою что-то не могу найти.
Николай, закончив бриться, отдал бритву брату, а сам смотрелся в зеркало, корча себе разные рожи, чтобы разглядеть, где он пропустил щетину. На завтрашний день Николай Муравьёв был назначен ординарцем к генералу Уварову и хотел показаться перед ним в лучшем виде, как подобает офицеру в день генеральной битвы (Муравьёв ещё был в том возрасте, который позволяет бриться раз на два дня).
– А хорошо бы щетина не росла! – сказал Александр, выбривая себе левую щёку. – Вот представьте, господа, когда я был у Коновницына в арьергарде, в ординарцах вместе со мной был подпоручик Литовского уланского полка Александров – так ему совершенно не было нужды бриться: не росло!
– Так он, может, совсем птенец? – сказал, позёвывая, Щербинин. Он выбрался из овина и щурился теперь на солнце, размышляя о необходимости кипятить чай.
– А вот нет… – ответил Муравьёв 1-й. – У него солдатский крест Военного ордена ещё за кампанию 1807 года – уж точно будет постарше нас…
– Значит, выпало человеку счастье… – сказал Щербинин. – Вы бы, Муравьёв, спросили его, в чём причина такого везения да рассказали нам – вдруг и у нас получится…
– При случае непременно спрошу… – ответил Муравьёв.
(Александров, о котором они сейчас разговаривали, был на самом деле женщина – от того и не росла у него борода. Это была Надежда Дурова, сбежавшая в армию ещё в 1806 году от мужа и маленького сына. В 1807 году разоблачённую отцовским письмом Дурову привезли к царю, который, выслушав её, разрешил ей служить, однако не раскрывая свой пол, под именем Александра Александровича Александрова. Слухи о том, что в русской армии служит женщина, ходили среди офицеров, но воспринимались и передавались как анекдот).
После утреннего туалета Николай взгромоздился на своего Казака и поехал искать дружины Московской военной силы – ополчения, в которое, как слышали Муравьёвы, вступил их отец. Муравьёв ехал вдоль Новой Смоленской дороги. Серые одежды ополченцев скоро показались перед ним. Остановив нескольких офицеров, Муравьёв стал спрашивать об отце, но никто не мог ему ничего сказать. Муравьев загрустил и хотел было воротить коня, но ополченские офицеры обступили его. Муравьев вдруг понял, что он для них, в своей прожжённой шинели, грязных сапогах и давно не чищенном мундире – ветеран, бывалый человек. Внутренне Муравьев усмехнулся, но его 18 лет дали себя знать – уже через несколько минут он стоял в кругу ополченских офицеров и степенно рассказывал о походе, о войсках русских и неприятельских, о вчерашнем бое за Шевардинский редут. Только про свои больные ноги и брата Михайлу он ничего рассказывать не стал – как-то не выходило…
С Московским ополчением приехал к армии Пётр Вяземский, 20-летний князь. Он вступил в казачий полк, созданный на деньги графа Мамонова, который придумал полку и форму. Патетическое настроение, охватившее Мамонова при создании полка, выражалось, видимо, лозунгом «Идущие на смерть приветствуют тебя!»: в результате Вяземский одет был во всё чёрное, а блестевшие золотом эполеты и аксельбант только придавали гробового эффекта. На голове князя была высокая шапка (на следующий день её схожесть с медвежьими шапками французских гвардейцев едва не стоила Вяземскому жизни).
Ещё в Москве Вяземский встретил генерала Милорадовича, который предложил князю поступить к нему адъютантом. Вяземский согласился. Теперь, по достижении армии, оставалось лишь найти на огромном поле Милорадовича.
Дорога к армии, особенно встреченные в Можайске обозы с ранеными при Шевардине, подействовали на поэта ошеломляюще. Те, кого он привык видеть в гостиных, кто порхали на балах или говорили речи в собраниях, сейчас лежали по крестьянским телегам с плохо перевязанными ранами, иные и без рук или ног. Вяземский примерил эту участь на себя, но она была так страшна, что он тут же отогнал от себя этот призрак.
Попав на Бородинское поле, Вяземский снова был потрясён – это был почти город, шумный, галдящий, чадящий кострами! В Москве в те годы жили около 300 тысяч человек – а только в русской армии с офицерской прислугой, с маркитантами и обозниками, было никак не меньше ста пятидесяти тысяч – а поле Бородинское, при всём размахе, в несколько раз меньше Москвы.
В Татарках Вяземский спросил какого-то офицера, не знает ли он, где стоит генерал Милорадович. Офицер пожал плечами. Так повторилось несколько раз. При поисках увидел Вяземский избу, вокруг которой не прекращалось движение, и решил, что это-то уж точно какой-нибудь штаб. Подъехав, он спешился и только пошёл к крыльцу, как из дома вдруг бегом, гремя сапогами и шпорами, высыпало несколько офицеров, тут же закричавших: «Коня! Коня!». Вяземского этим потоком словно откинуло в сторону. И пока он приходил в себя, увидел, как на крыльцо вышел Кутузов. Предводитель русского воинства был одет в мундир, на голове вместо треуголки имел бескозырку. Шарф, которым офицеры опоясывались, был перекинут у него через плечо, и на шарфе висела шпага. В таком виде Кутузов прошёл к тут же подведённой для него низенькой лошади, сел с помощью казака в седло, и затрусил куда-то, сопровождаемой державшейся поодаль свитой, показавшейся Вяземскому бессчётной.
Вяземский, хоть и был рюрикович, а при виде Кутузова осел, и потом долго ещё думал, как он будет рассказывать про это в Москве. Тут кто-то из штабных сумел наконец подсказать князю, где же искать Милорадовича. Князь нашёл генерала у костра на солдатском биваке.
– Поздравляю, вы приехали очень кстати: битва завтра почти несомненна! – сразу после приветствия заявил Милорадович. Вяземский вдруг почувствовал, что ему стало горячо – он вспомнил эти подводы в Можайске, и в одной из телег израненного Андрея Гудовича, своего старого знакомого, который в бреду его не узнал. Милорадович, посмотрев на этого юношу в очках, с причёской по последней моде, в романтической чёрной форме, вздохнул.
– Как там Москва? – спросил Милорадович. – Как Ростопчин?
– Ростопчин пишет, что француза в Москву не пустят… – ответил Вяземский.
– Молодец! – одобрительно кивнул головой Милорадович. – А что же горожане?
– Кто как… – покачал головой Вяземский. – Верят, а женщин и детей отсылают в дальние деревни. Вот Карамзин (создатель первой «Истории государства Российского» был женат на сестре Вяземского) отправил семью в Ярославль. А сам остался. Говорит: «не хочется трусить».
– Ишь ты… – Милорадович усмехнулся. – «Не хочется трусить»… Хорошие нашёл слова. А у нас здесь, князь Петр Андреевич, и захочешь – а не струсишь. Будешь завтра при мне. Пока же располагайся в моей избе – а я буду в палатке…
Вяземский уехал. Милорадович посмотрел ему вслед. Сам он впервые попал под огонь в 17 лет. С тех пор, за 22 года службы, он много раз играл со смертью. У Милорадовича не было сомнений, что и завтра игра сложится в его пользу – почти никто из людей на войне не думает, что именно ему выкинет судьба плохую карту. Был у Милорадовича и свой трюк: отличная английская лошадь его скакала так быстро, что французские стрелки всегда стреляли туда, где Милорадовича уже не было. Усмехнувшись от этой мысли и придя в отличное настроение от предвкушения завтрашней опасности, Милорадович велел подать лошадь: после полудня Кутузов собирал всех главных генералов.
Кутузов почти не спал эту ночь – он полагал, что Наполеон не побоится темноты и пойдёт в атаку. Однако обошлось без каверз – Наполеон не атаковал. Кутузов спрашивал себя: может, Наполеон и вовсе уже не способен на каверзы и можно воевать с ним, как с любым другим генералом? Впрочем, и от любого другого генерала можно было дождаться сюрпризов.
«Уж такое наше ремесло»… – подумал Кутузов. Всю бессонную ночь он размышлял, всё ли готово для боя. На полдень собирал командиров – послушать, что они между собой говорят, когда думают, что он их не слышит.