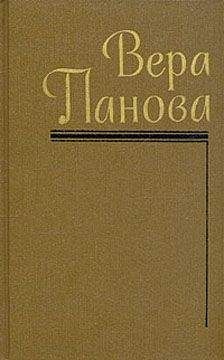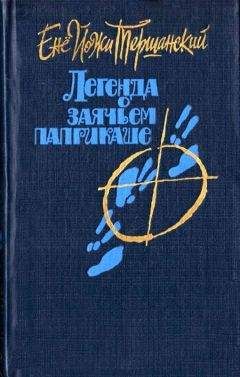Если кто ниву возделывает или виноград и видит плоды произрастающие и трудов не помнит от радости. Если же видит свою ниву поросшей многими терниями — как ему молчать о том, как не стенать?
Молю вас, братия моя любимая, терпением вооружимся.
Не пророков ли предают в беды и напасти? Тех каменьями побивают, других в пещь мечут, иных ко львам.
И апостолов гонят, и в темницу сажают, и укоряют, и они не унывают в стольких бедах, не отвергают упования своего.
И преподобных отцов видим, в терпении житие свое кончающих, как звезды сияющих в памяти нашей.
Поклонимся и припадем к нему, и восплачем с покаянием. Поплачем здесь, но получим царство небесное и там утешимся».
Святослав пирует шумно, хвастливо. На сенях, на виду стоят столы, и завесы раздернуты. Гусляры играют на гуслях, ложечники на ложках, вино наставлено бочками, женки бесстыжие песни поют, мужикам на плечо наваливаются. Нарядный, пьяный сидит Святослав, и против него Феодосий в выгоревшей порыжелой одежде из сукна такого грубого, что отчетливо видно переплетение нитей, как у мешковины.
Истязание ему пиры эти. Повадился Святослав призывать его на гульбища, думает — оказывает честь. Как не пойдешь, когда князь велит идти? А ну разгневается? Отнимет милость? Им это недолго. Тогда — что с обителью? Великое дело подставлять под удар? Теперь вот есть божье указание строить храм Успения пресвятыя богородицы, надо выписывать зодчих из Византии, — кому о помощи кланяться? Князю же.
Через то Феодосий и сидит среди непотребства.
Запел свирельный голос, поет молоденькая, чуть не отроковица, бровки — цыплячий пушок, ей бы петь на клиросе в платье послушницы, а она раскрыла детские уста и поет плотское, призывное, ужасное.
Ее перебила старая, обросшая пудами жира, пискливая, как комар, поет и в раже кидает на стол жирные кулаки, горящие каменьями.
— Ты что не ешь, — говорит Святослав и, взяв кусок рыбы с блюда, протягивает Феодосию. — Ешь, отче!
Кусок хорош. Подлива каплет на скатерть. Кругом смотрят: чтит Святослав Ярославич печерского игумена. Из своих рук угощает.
А Феодосию становится невмочь.
Как: слуге божьему, свыше призванному, свыше вдохновленному, — из этих пальцев принимать куски!
Щелкают ложками ложечники. Плясуны скачут. Хохоча, мужики и женки хватают друг дружку.
В гордыне, какой не знал сроду, обращает Феодосий светящийся свой взор на Святослава. И остановилась над столом Святославова рука с куском рыбы.
— А на суде как будет? — громогласно и внятно спрашивает Феодосий.
Притихло:
— Что он сказал?
Машут плясунам:
— Цыц вы!
Один за другим угомоняются плясуны. Смолкли ложки. Кто-то среди тишины щелканул и оборвал.
— Чего он?..
— Кровавые! Алчные! — в тишине гремит Феодосий. — Братоненавистники! Сатане предавшиеся! О, будет суд на вас!..
Он встает и идет вдоль сеней к лестнице, высоко держа посох оплетенной синими жилами иссохшей рукой.
Всю ночь он молится, чтобы всемогущий отпустил ему грех возмущения и гордыни и отвел Святославов гнев от обители. Ослабев, просит совета — не пойти ли нынче же к князю с покаянием. Когда утром к нему стучат, он покорно встает с колен: вот он, час земного возмездья! Отворяй, Феодосий!
Это прибыл Святослав. Непроспавшиеся бояре теснятся за ним.
— Благослови, отче, — просит Святослав.
И бояре подходят под благословение в своих залитых вином кафтанах.
— Я думал, — говорит Святослав, — ты на меня до сих пор гневаешься, не захочешь и впустить.
— Наш долг, — отвечает Феодосий, — говорить вам то, что служит ко спасению душ ваших.
— Стало быть, — говорит Святослав, — храм Успения будешь строить.
— Если на то воля божья и твоя.
— Ну, пойдем помолимся вместе, — говорит Святослав.
Юноша лет семнадцати входит к Феодосию. Одетый невзрачно, с котомкой через плечо, с лицом худощавым и бледным, имеет, однако, вид неробкий, глаза смотрят востро и разумно.
— Чего ищешь? — спрашивает Феодосий.
— Спасения, — отвечает юноша.
— Чем спастись думаешь?
— Трудами во имя божие.
— Какой труд тебе в охоту? Что умеешь?
— Грамоте умею.
— Почерк добрый?
— Погляди, отче.
Юноша достает из котомки бумагу и разворачивает.
— Не больно добрый, — говорит Феодосий. — Ну, будешь прилежен — усовершенствуешься. Но что здесь такое написано про солнце?
— То было, — говорит юноша, — незадолго до того, как мне родиться. Люди рассказывали, я записал. На солнце накатывала тьма, на глазах у всех стояло солнце серпом, как месяц. Я многое, отче, записываю.
— Всё, что рассказывают?
— Не всё — достойное. Больше ведь слышишь такого, что недостойно людской памяти.
— Суетными россказнями переполнен мир, — вздыхает Феодосий. — Что же именно ты полагаешь достойным?
— Род человеческий на земле, — отвечает юноша, — прибывая, как река в половодье, без оглядки мчится к судьбам своим, мало склонный вникать в прошлое и искать в нем указаний на будущее. Между тем что может быть полезней уроков пережитого? Будь народы к нему внимательней, разве не избегли бы они тьмы печальных ошибок? Не уважали бы больше друг друга, видя в себе не случайные скоропреходящие скопления, но звенья единой могучей цепи, связанной преемством и заботой о потомках? Возможность принесть посильную пользу людям вижу в том, чтоб закрепить в их памяти всё дельное и поучительное, насколько дано мне будет разума. Дельностью и руководствуюсь, отделяя достойное от недостойного, когда то и другое льется мне в уши.
— Кое-чему я и сам был свидетелем, — продолжает он, — довелось. К примеру, когда я еще дитя был, из нашей реки вытащили рыбацкие сети урода — такого, верно, от сотворения не бывало: не человек, не рыба, не зверь, не знаю кто. Оно лежало мертвое на берегу, и до вечера люди приходили ужасаться. Дозволишь ли сказать: у него срамные части были на лице! Впрочем, сам прочитай, вот описание. Я воздержался, как видишь, от подробностей, ибо они нечисты, а слово должно быть чистым.
— Справедливо судишь, — одобряет Феодосий. — Так, слово было в начале всего, и оно должно быть чистым, как святая вода, как слеза Христова!
— Отче, — спрашивает юноша, — тьма на солнце, срамной урод — не те ли это знамения, о которых читаем в Иоанновом откровении?
— Нет, сынок, — отвечает Феодосий. — Не соблазняйся видимым и слышимым. Это не те знамения. Для тех еще рано. Но любознательность твоя и намерения — от бога. Записывай, что находишь нужным. Я тоже имею рассказать немало замечательного, что следует сохранить в назидание грядущему. Оставайся у нас, здесь наилучшее тебе место. Как звать тебя?
— Нестор, — отвечает юноша.
Долго длится монастырское всенощное бдение. Осенняя ночь черным-черна, когда оно оканчивается. Братия, засыпая на ходу, расходится по кельям, а Феодосий надевает мантию с куколем и отправляется в город.
Знакомой тропкой, постукивая посохом, шествует через лес, оголенный и уныло стонущий, и выходит на проезжую дорогу. Снег еще не выпадал, дорога, скованная морозом, — как железо. Ветер режет лицо, рвет с плеч ветхую мантию, — но вот рассвет, вот Жидовские ворота, цель Феодосиева странствия сквозь стужу и мрак.
Многие лавки еще закрыты, но некоторые открылись, в их пахучей глубине горят огни. Там перекладывают на полках свертки заморского сукна и шелка. Там в свете светильника блестят монеты, меняла отсчитывает деньги сидящему перед ним купцу. Стража похаживает перед лавками, смотрит, чтоб не было разбоя и обиды как для продающих, так и для покупающих.
— Эге! — говорит какой-нибудь еврей, завидев Феодосия. — Шмул, Ицхок, бежите за ребе Иеремией, к нам опять пожаловал господин игумен! — И, выскочив из лавки, просит с поклонами: — Заходи, господин! Мои сыновья не преминут доставить к тебе ребе Иеремию и всех, с кем твоя святость имеет обыкновение беседовать. А пока осчастливь меня, зайдя в мою лавку и отдохнув на моем стуле!
Но Феодосий в лавки не заходит, а ждет на улице, на ветру, тех, к кому пришел: ребе Иеремию и других спорщиков — учителей и старейшин, пасущих здешнюю паству. Они не долго заставляют себя ждать: вон поспешают, шаркая подошвами длинных башмаков; слышится их стариковский утренний кашель. Горбоносые, в седых кудрявых пейсах, в черных плащах с желтой каймой, обступают Феодосия. Медленно разлепляет очи темный день, и под навесом базара разгорается словопрение.
— Что ж, — спрашивает Феодосий, — кому-нибудь в душу запало зерно, мною брошенное? Может, хоть одному запало? Может, хоть малый, хоть крохотный дало росток? Или снова объявите, что не веруете в очевидное?
— Господин, — печально отвечает ребе Иеремия, — мы не веруем, ибо у нас есть основания.