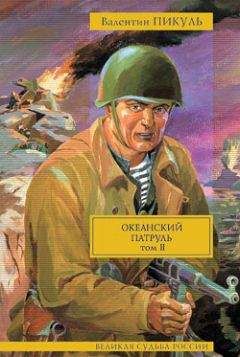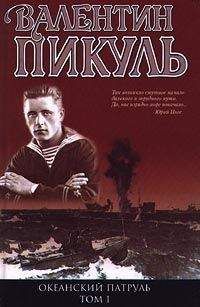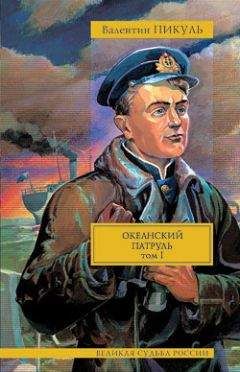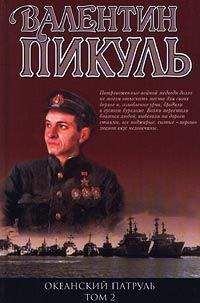– Иди к черту! – сказал капрал, и солдаты так и не поняли, кого он выругал…
Фронт, в близость которого никто еще не верил, неудержимо накатывался на автоколонну толпами беженцев. Богатые мужики злобно стегали лошадей по оскаленным мордам, на телегах дребезжала домашняя утварь, бежали следом, высунув языки, громадные волкодавы, блеяли козы, женщины с растрепанными волосами понукали детей. А потом, застилая леса желтой гарью, поплыли дымы пожаров, потянулись первые раненые. Их черные, словно обугленные, лица были искажены болью и ужасом пережитого…
Застрявшие в этом потоке машины остановились, и Олави сказал:
– Дым… Проклятый дым! Пить хочется, а фляга пуста… Пойду отыщу колодец…
Он дружески хлопнул Ориккайнена по плечу, перекинул на живот «суоми» и скрылся в густой толпе.
Больше его никто не видел…
* * *
Никли под солнцем некошеные травы, густо ходила в озерах нагулявшая рыба, гнили в лесах штабеля бревен, зарастал мхом узорный гранит каменоломен, и над страной Суоми гулял ветер – ветер нищеты, разрухи, печали и смятения.
И, не сводя пальца с курка автомата, обходя селения, просыпаясь по ночам от птичьего вскрика, финский солдат Олави – по лесам, по горам и болотам – возвращался к своей семье.
– Эх, Поленька ты моя, Поленька, – вздыхал Антон Захарович Мацуга, – посмотрела бы ты на меня сейчас, не узнала бы своего старика…
Давно ли мичман в концлагере, всего каких-нибудь полтора месяца, а в стариковское тело уже закрался страшный бич севера – скорбут…
Антон Захарович потрогал пальцами разбухшие десны, злобно плюнул на пол:
– Конечно, она самая – цинга. Где же ей не быть, коли суп и тот на морской воде варят.
– Известное дело, – ответил сосед Семушкин, – на здешней помойной яме и ворона не наестся, вон соли и той жалеют.
– Охо-хо! – сокрушенно вздохнул старый боцман и устало закрыл глаза.
Много пришлось пережить ему в «политише абтайлюнге», когда враги узнали, что перед ними не комиссар «Аскольда», а простой боцман-сверхсрочник, которому дано право носить офицерский китель и фуражку. Но его не расстреляли, а отвезли в Эльвинесский концлагерь, расположенный на берегу Бек-фиорда, недалеко от Киркенеса. В городе боцман бывал до войны, куда «Аскольд» отводил одно норвежское судно, потерпевшее аварию в море. Если смотреть в окно барака, то через густую паутину колючей проволоки можно было разглядеть знакомые улочки, по которым Антон Захарович бродил когда-то, а норвежцы, завидев русского, еще издали снимали шляпы и кричали: «Совьет! Руссиа!..»
Впрочем, население Киркенеса мало изменилось. Каждую субботу жители города передавали пленным хлеб и соленую рыбу-фишку. Распоряжавшиеся дележкой лагерные эсэсовцы лучшую часть продуктов забирали себе, чтобы отправить посылкой за море в Германию, а остатки разносили по баракам.
Сначала мичман был послан на каторжные работы в штейнбрух – большую подземную каменоломню, где добывался точильный камень. Потом немцы, убедившись в том, что из него работник плохой, навесили на грудь Антона Захаровича синий крест, означавший скорое переселение мичмана в барак для больных, так называемый «ревир»-лагерь. Этот синий крест ставил жизнь боцмана под угрозу, ибо каждый, кто попадал в барак для больных, обратно уже не возвращался. Незаметно подкралась цинга, подтачивая изнутри слабый старческий организм.
«Хоть бы травы какой-нибудь найти», – думал Антон Захарович, выходя на территорию лагеря, но кругом лежал голый полярный камень-гранит, и – ни травинки…
Мацута не заметил, как заснул, и проснулся, разбуженный густым, сочным голосом Саши Кротких – общего любимца военнопленных. Этого красавца матроса, умудрявшегося даже в условиях концлагеря сохранять невозмутимый щегольской вид, побаивались не только охранники, но и эсэсовцы. Саша Кротких был человеком отчаянной смелости. Три раза немцы предлагали матросу поступить к ним на службу, а он три раза совершал побеги, побывав во всех концлагерях Норвегии. Три раза он был приговорен к смерти, но немцы почему-то не расстреливали его, очевидно, еще надеясь на то, что Саша Кротких «одумается» и поступит к ним на службу.
Сейчас матрос сидел на нарах с Семушкиным, который рядом с его могучей фигурой казался тщедушным и хилым, и говорил:
– Это ничего, что меня три раза ловили. Меня, брат, не удержишь, я парень упрямый, больше всего свободу люблю. Все равно до своих доберусь!..
Увидев, что Мацута открыл глаза, Саша Кротких хлопнул его по колену и предложил:
– Во! Составляй мне, старина, компанию…
Антон Захарович сел, потирая колено, занывшее от тяжелой руки Саши.
– Плохой я тебе товарищ. В молодости и я бегал, как ты, даже посмелее твоего. В интервенцию в трюмах линейного корабля «Чесма» сидел, вот попробовал бы ты оттуда вырваться!..
Неожиданно, взвизгнув ржавыми петлями, распахнулась дверь барака, и в ее четком квадрате, над которым висела жирная надпись: «Одна вошь – твоя смерть», выросла фигура старосты барака – блок-эльтестера Генриха Фильцхаута.
– Эй, вы, бездельники! – крикнул эсэсовец еще с порога. – Стройся на работу, требуется десять человек для ремонта дороги. Подвяжите свои бутсы, ребята, идти придется далеко! А ну, шевелись!..
Через полчаса, с лопатой на плече, Антон Захарович уже шагал по гудрированному шоссе дороги Киркенес – Польмак. Рядом с ним шли Саша Кротких и солдат Семушкин. Партию пленных охраняли два финских шюцкоровца во главе с Фильцхаутом.
Небо было безоблачно и приятно ласкало глаза своей ясной синевой. На болоте плакала тундровая выпь, солнце садилось за вершины сопок, окрашивая в розовый цвет маслянистый гудрон дороги. Серовато‑бурый ягель, растущий на громадных валунах, свисал вниз причудливыми космами. То здесь, то там желтели в траве золотые монетки отцветающего курослепа. Скромные альпийские ясколки качались по обочине шоссе на тоненьких стебельках, запыленные и примятые автомобильными шинами.
Генрих Фильцхаут шагал медленной, ленивой поступью, держа кобуру своего парабеллума открытой и не сводя глаза с Саши Кротких. Антон Захарович следил за ними обоими и понимал, что кто-то один из них сегодня должен погибнуть. Матрос решил бежать – это было видно по его глазам, которые рыскали из стороны в сторону, измеряя расстояние между охранниками.
Мичман же вышел на работу лишь потому, что хотел насобирать лажечниковой травы, которая хорошо излечивает цингу. «Где уж мне, старику, бегать», – думал он. Но теперь, приглядываясь к окрестностям и наблюдая за Сашей, он невольно заражался тем страшным спокойствием, какое бывает у людей, принимающих важное рискованное решение.
Но все случилось иначе…
Они переходили через висячий мост над ущельем. Внизу, налетая на камни, белым молоком клубилась горная река. Мост шатался под ногами. Дорога от моста сворачивала направо и была закрыта со всех сторон цепким кустарником.
Пленные вошли под свод ветвей, и в этот же момент затрещали выстрелы. Откуда стреляли – было непонятно, но стреляли метко, и блок-эльтестер первым рухнул на землю с пробитой головой. Один шюцкоровец, отбежав в сторону и встав на колено, припал к автомату, чтобы в последнюю минуту покончить с военнопленными, другой замахивался гранатой.
Все произошло так неожиданно, что боцман вначале растерялся, стоя посреди опустевшей дороги. Из этого состояния его вывела длинная автоматная очередь. Ни одна из пуль его не задела. Едва осознав это, Антон Захарович бросился к обочине, и в ту же секунду раздался взрыв гранаты. Ломая хрупкие кустарники, он упал в мягкий мох и потерял сознание…
* * *
Никонов на своих плечах дотащил аскольдовского боцмана до старинной крепости, где размещался партизанский отряд; потом спустился в подвал, куда привели освобожденных из гитлеровского плена людей.
– Встать! – скомандовал Иржи Белчо, когда Никонов появился в дверях.
Саша Кротких медленнее всех поднялся на ноги и этим сразу привлек внимание Никонова.
– А ну-ка сядь! – сказал он ему.
Саша Кротких, удивленно посмотрев на всех, сел.
– А теперь встань!
Матрос встал.
– Ну как, исполнять команды научился?
– Понял. Дисциплинка – ничего, подходящая!
– Слава богу, если понравилась, – усмехнулся Никонов. – А теперь рассказывай, как в плен попал. Да только знай: солжешь – не помилую!
– А чего там рассказывать? Затонул наш мотобот, мы в воде плаваем, а немецкий «охотник» на нас прет. Вот лейтенант и говорит: «Ребята, над вашими жизнями я не волен, каждый хозяин своей судьбе, а только я поступлю так…» Выпустил он воздух из спасжилета, пошел на дно. Потом и боцман попрощался с нами. Наконец осталось нас двое… Дальше, что ли, рассказывать, командир?
– Рассказывай, – сухо ответил Никонов.
– Ну ладно, хотя и тошно вспоминать это… Осталось нас, значит, двое: я и Федюнька. Обнял он меня и говорит: «Ну, Сашко, я последним быть не желаю, прощай!» Может, не надо дальше, командир? Не тяни душу!..