Но теперь гри дорого заплатил за свое нападение. А его когти и зубы совершили нечто непоправимое, чего пома не могла предотвратить. И пока он лежал на земле, задушенный, с переломанным позвоночником, маленький чунг как-то необыкновенно извивался. Лапы у него словно плясали. Он завывал, не открывая глаз, а из разодранной спины у него текла кровь.
Пома схватила его и унесла на дерево. Там она обняла его, осмотрела и вдруг начала быстро всхлипывать, а потом подняла голову и протяжно завыла. Ее лоснящаяся шерсть была в крови.
Несколько чунгов приблизились к ней вплотную и уселись на ветках. Они глядели на ревущую пому и на бьющееся у нее в руках тельце, тяжело вздыхали, наклонялись друг к другу и почесывались. Они понимали, что произошло, но ничем не могли помочь. Потом с помой остался только ее чунг; он угрожающе рычал на кого-то и смотрел на пому и детеныша, быстро мигая глазами.
Для чунгов смерть не существовала. Даже умирая, — своей ли смертью или в когтях у сильных, свирепых хищников, — они не знали, что умирают. Смерть имела значение для других животных, но не для них. Они очень хорошо знали, когда животное было мертвым и что значило мертвое животное, но обращали на него внимание лишь постольку, поскольку это их касалось. Об остальном они даже не пытались думать. Они знали, что мертвое животное не может на них напасть, и этого было довольно, чтобы не думать о нем больше. А если они все-таки страдали от силы и свирепости хищников, если убегали от них или боролись, чтобы не быть съеденными, то причиной тому был не страх умереть и перестать существовать, а какая-то сила, лежавшая за пределами их сознания.
Поэтому пома не могла понять, что именно случилось с ее детенышем. Он был тяжело ранен зубами и когтями гри — об этом говорила его разодранная спина, и это само по себе было плохо. Но для ее сознания он был жив бился, махал лапами, выл. А двигается — значит, живет. Следовательно, вопрос для нее сводился только к его выздоровлению. Когда и как? Таких вопросов для нее не существовало. Ибо жизнь чунгов была лишена осознанного начала, так же как и осознанного конца.
Наконец маленький чунг совсем успокоился и перестал трясти головой и лапами, но делал это не по своей воле. Пома перетаскивала его с места на место, подхватив передней лапой подмышки, таскала по деревьям и по земле, давала ему плоды, которых он не брал и не видел; смачивала ладонь и клала ему на израненную спину — единственный способ, которым чунги лечили свои раны.
Но рана от когтей пестро-серого гри загноилась, запахла, в ней завелись черви. Пома, внимательная и заботливая мать, слизывала червей языком и отгоняла лапами мух, ползавших по ране. Чунг повсюду следовал за нею, печально мигая глазами, серьезный и молчаливый; он не сознавал положения детеныша, но всегда был настороже, когда они спускались на землю, и всегда был готов раскрыть пасть для предостерегающего рева.
Наконец маленький чунг совсем успокоился и перестал трясти головой и лапами. И пома поняла — почувствовала, что это значит. Она заревела зловещим, отрывистым ревом и понеслась с ветки на ветку, с дерева на дерево, не переставая реветь. Чунги отвечали ей раз и два, а потеряв из виду, умолкали. Хвостатые чин-ги при ее появлении переставали кричать и прыгать и начинали скулить. А мертвое тельце маленького чунга болталось при ее прыжках, холодное и безжизненное, с повисшими лапами и головой.
Два дня и две ночи пома носила его, подхватив под мышки, и прыгала с ним по деревьям, не переставая реветь. Ее частые крики не давали чунгам спать по ночам. Но запах, шедший от трупа детеныша, стал нестерпимым. Тогда чунг и пома спустились на землю и засыпали трупик сухими листьями и ветками. Потом они отошли на несколько прыжков, чтобы не так ощущать запах, и сели на землю. Странные, хриплые звуки сжимали горло поме; из глаз у нее по каплям струилась вода.
Чунг смотрел на нее, молча удивляясь и молча мигая своими маленькими глазами: страдания помы были ему непонятны.
Когда чунгу случалось умереть в присутствии других чунгов, последние начинали громко, протяжно реветь: смутная, неопределенная тревога охватывала их и угнетала их сознание. Сами не зная, зачем и почему, они заваливали труп ветками, а потом расходились, не интересуясь больше похороненным покойником. Впрочем, судьба умерших чунгов была всегда одинаковой: их поедали трупоеды хе-ни и ри-ми.
Запах, шедший от детеныша и отогнавший чунга и пому от могилы их первенца, привлек трупоедов ри-ми. В полумраке лесной чащи вокруг заблестели попарно яркие точки. Послышался тонкий, жалобный вой. Ри-ми собирались…
Ри-ми были небольшие робкие животные. Мимо них, не боясь нападения, мог пройти даже кроткий дже. Они скитались в лесу попарно, никогда не больше двух, и у них не бывало другой цели, кроме трупов животных, запах которых они чуяли издалека своими тонкими заостренными носами. И первые же два ри-ми, которым попадался гниющий труп мертвого зверя, поднимали тонкий, жалобный вой. Другие ри-ми, услышав его, шли в эту сторону, издавая такой же вой. Их слышали третьи и, в свою очередь, передавали дальше. И со всех сторон к обнаруженному трупу стекались сплошные потоки воющих ри-ми. Ничто больше не могло остановить их алчности: своей многочисленностью они становились опасными даже для грау. Они оспаривали друг у друга учуянную добычу, сзывали друг друга для общего дележа, а потом накидывались и рвали друг друга с такой же яростью, с какой до этого рвали гниющий труп.
…Количество блестящих в полумраке глаз увеличилось, и кольцо вокруг чунга и помы сузилось. Жалобный вой стал еще более резким и алчным. Но ри-ми все еще не решались нападать: у кучки веток, откуда шло привлекательное для их обоняния зловоние, сидели два крупных, сильных чунга. И ри-ми продолжали ждать, чтобы чунги ушли на деревья и оставили труп детеныша в их распоряжении.
Но чунг и пома, сидя спиной друг к другу, взъерошились и угрожающе рычали: они хотели защитить детеныша от такого быстрого съедания. Они словно решили, что скорее пусть будут съедены сами, но не позволят ри-ми съесть его. Не обращая внимания на запах, они подошли к кучке ветвей поближе и ждали нападения ри-ми.
Тем временем ри-ми стало уже много-много, а другие все подходили и подходили и вторили жалобному вою первых. И вот несколько ближайших кинулись вперед и, невзирая на опасность со стороны двух крупных чунгов, сунулись мордами в кучку веток. Пома мгновенно подскочила к ним, схватила одного из алчных хищников передними лапами за голову, свернула ему шею быстрым, резким движением и, яростно взревев, далеко отшвырнула его. Потом сделала то же с другим. Остальные ри-ми отступили. Их алчный жалобный вой сменился недовольным визгом, когда они поняли, что двое чунгов решили не отступать. Тогда, в свою очередь, они решили напасть со всех сторон сразу.
И ри-ми напали со всех сторон одновременно. Не на чунга и пому, а на кучку веток, откуда шел манящий для них смрад от трупа маленького чунга. А так как чунг и пома не хотели уступать им этого лакомства, то, естественно, надо было напасть и на них. Один ри-ми вонзил острые зубы в ногу чунгу. Последний, схватив его огромной рукой за морду, оторвал от себя вместе с куском мяса, а потом, ревя от боли и ярости, свернул ему шею и со страшной силой швырнул его в других нападающих ри-ми. Двоих он убил одним ударом, другие отступили, но потом налетели снова.
Тогда началась настоящая битва. Чунг и пома едва успевали отражать нападения ри-ми и защищаться от их острых зубов. Но в крови у них пылала дикая ярость. Теперь они бились не за детеныша, а для того, чтобы утолить охватившую их ярость.
Ри-ми надеялись на свое количество, чунг и пома — на свою силу. Одни полагались на свои острые зубы, другие — на чудесную хватательную способность своих лап. Первые нападали, вторые защищались. И ни те, ни другие не намеревались отступать.
Но если силы чунга и помы имели свой предел и границу, то множество ри-ми было беспредельным. Их становилось все больше и больше, и вскоре чунг и пома оказались окруженными так, что не смогли бы отступить, если бы даже захотели. Тогда ярость у них притупилась, превратилась в страх и тревогу. И вдруг, погребенная под более поздними переживаниями, в сознании у помы возникла давно забытая картина того, как она защищалась от ми-ши.
Это был быстрый, мгновенный проблеск: на миг ей показалось, что сейчас на нее нападают не ри-ми, а ми-ши, — такое же впечатление произвело на нее количество ри-ми и такое же чувство страха и тревоги охватило ее. И под влиянием этого внезапно мелькнувшего воспоминания она вдруг наклонилась, выхватила у себя из под ног ветку и изо всех сил махнула ею по наседающим трупоедам.
После нескольких ударов листья оборвались, остались голые сучья, махать которыми было гораздо легче. И произошло нечто такое, чего она не могла предположить и ожидать: при каждом быстром взмахе ветки многие ри-ми взвизгивали и падали неподвижно, многие отскакивали с еще более жалобным воем. Свист ветки, вой, визг, тупой хруст и яростный рев — все это слилось воедино.
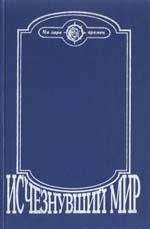

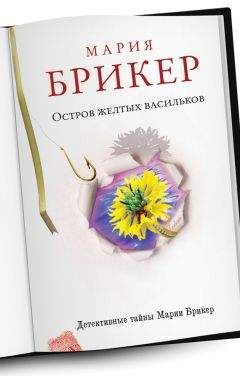

![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)