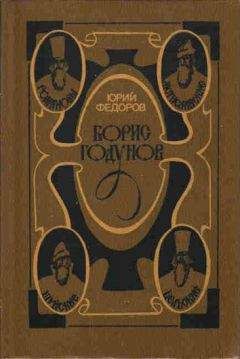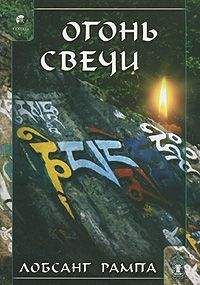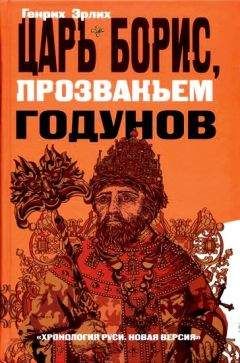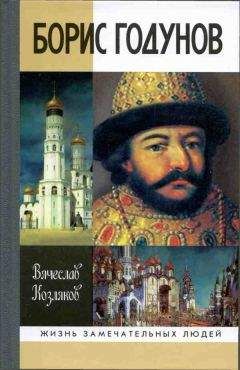Мнишек растерянно оглянулся.
У казачьего атамана Белешко глаза не выражали ничего, кроме удовольствия от выпитой чарки горилки.
Лица польских офицеров по-прежнему хранили шляхетскую невозмутимость.
Толпа молчала.
Боковым зрением воевода Мнишек углядел стоящего напротив крыльца какого-то мужичонку. Тот растерянно, с испугом таращился на мнимого царевича. В глазах сквозило недоумение. Срывая голос, воевода Мнишек закричал:
— Слава! Слава! Слава!
И услышал, как мощно, по-бычьему, загудел проснувшийся от хмельно-сытого томления атаман Белешко:
— Сла-а-ва! Сла-а-а-ва! Сла-а-а-а-ва!
Воевода глянул на него с надеждой. Увидел: у атамана краска в лице проступила, жилы надулись на лбу от натуги.
Вяло растянули в приветственном крике блеклые губы польские офицеры.
И тут с пьяной неудержимостью грянули на площади казаки:
— Слава! Слава! Слава!
И польское послышалось:
— Виват! Виват! Виват!
Мужичонка, которого заприметил воевода в толпе, оглянулся вокруг, по-сорочьи вертя головой, и разинул рот в крике. Вся толпа заволновалась и ответила своим:
— Слава! Слава! Слава!
Но это величание — а голоса на площади гремели, как разгорающийся костер, — казалось, не было услышано мнимым царевичем. Он как стал несуразно, так и стоял. Мнишек сделал было к нему шаг, но в это время в подклети сильно хлопнула дверь и казаки вытолкнули из нее воеводу Монастыревского острога. С заломленными за спину руками, с всклокоченной, ничем не покрытой головой, с почерневшим от страха лицом, он был вовсе не к месту в минуту, когда площадь славила явленного ей царевича. И Мнишек хотел крикнуть казакам, чтобы они убрали воеводу, затолкали опять в подклеть, но было поздно. Толпа увидела воеводу. Юрий Мнишек опустил вскинувшуюся для приказа руку.
Казаки толкнули воеводу к крыльцу, и он, не удержавшись на ногах, упал на колени.
Голоса на площади погасли, словно плеснули на занимавшийся огонь воду.
— Не суди! — задушенно крикнул воевода с колен. — Помилуй!
Вопль этот был так жалок, болезнен и мучителен, что пронзил душу каждого стоящего на площади.
Случилось так, что крики толпы, славившей мнимого царевича, вроде бы им не услышались. Он стоял перед людом острожским, казаками, поляками, вызывавшим недоумение пугалом деревянным. Но вот голос измученного острожского воеводы и разбудил его, и подсказал решение, которое заставило во все глаза смотревших на него людей забыть нелепый золоченый его шлем, шубу невесть с чьего плеча, растерянность, написанную на лице, и поверить, что перед ними истинный царевич.
Отрепьев неожиданно ожил, шагнул по ступеням к воеводе, обхватил за плечи и поднял на ноги.
— Не моли о пощаде, — услышали на площади, — не моли… Ты прощен, прощен…
Площадь облегченно вздохнула единой грудью и взорвалась криками:
— Слава! Слава! Слава!
Милость, как ничто иное, радует и подкупает людей. Хотя бы и милость обманная и порождающая обманные же надежды. А впрочем, надежды все обманны. Надежды — всегда ложь.
В тот же день воевода Юрий Мнишек по указу мнимого царевича разыскал среди казаков Ивана-трехпалого.
— Сей беглый московский человек, — сказал Отрепьев, — делу нашему большой помощью может стать. В Чернигов его пошлешь с наказом. В Чернигов!
— Какой Иван? — переспросил атаман Белешко ротмистра Борша.
Тот пояснил.
— А… — протянул атаман с ленцой, которая выказывала, что казачине некуда да и незачем торопиться, — так то москаль… Шукай вон в той хате, — ткнул пальцем и отвернулся, показывая поляку широкую спину и могучую зашеину.
У ротмистра глаза нехорошо скосились. Казак для него был как для быка красная тряпка. От досады и раздражения он придавил коня шпорой. Тот бешено всхрапнул, и только крепко натянутые поводья удержали коня от того, чтобы вскинуться на дыбы.
Белешко, однако, и головы не повернул.
У хаты, на которую указал атаман, топтались казаки, дымил костер и подле него, распятая на рожне, запекалась свиная туша, показывая облитый жиром золотой бок. Тянуло жареным мясом и острым, удушливым запахом самогона. Высокая, сложенная из соломы крыша хаты тяжко нависла над заполненным неведомыми ей людьми двором и, казалось, хмурилась недоуменно, словно говоря, что и острые запахи, и пляшущее пламя костра, и возбужденная казачья разноголосица были для нее и чужды, и опасны, и враждебны.
Борша придержал коня.
Иван-трехпалый встретил поляка с хмельной радостью.
— Царевич повелел! — вскричал, как ежели бы только того и ждал: — Сей миг! У нас все разом! — Покачнулся на нетвердых ногах, ухватился за плетень: — Иду, иду!
Поляк брезгливо собрал губы.
Иван утвердился на ногах, вскинул пунцовое от хмеля лицо.
— А может, пан офицер, — воскликнул он с задором, — хочет горилки? У нас добрая горилка!
Ворот у него был распахнут, на шее мотался крест. Чувствовалось, что пьян он не первый день и, как это бывает в таком случае, словоохотлив без меры.
— Добрая, добрая горилка, — повторил и, не дожидаясь ответа, оборотился к топтавшимся у хаты казакам: — Горилки пану офицеру!
Борша в другое время, не раздумывая, плетью бы проучил холопа, но за москалем послал пан Мнишек и откуда было знать, как он отнесется к тому, ежели огреть плетью наглого мужика.
— Нет, — сказал Борша и отвел рукой ковш, — нет!
Иван поднял брови, взглянул на офицера. И Борша увидел: превозмогая хмель, мужик что-то соображает. Лицо москаля изменилось, улыбка с него сошла. Может, угадал презрение в глазах у поляка, может, что иное подумал, но только Иван сунул ковш с горилкой казаку, выхватил у него из руки принесенный для закуски огурец и, в другой раз оборотившись к высившемуся на коне офицеру, сказал коротко:
— Идем.
Повернулся и зашагал вдоль улицы, так твердо держась на ногах, будто бы это не он вовсе минуту назад обнимал плетень.
Борша тронул коня.
Иван с хрустом грыз огурец, а в мыслях у него было: «Зачем я царевичу понадобился?» И тревожно ему стало, и вместе с тем подмывала лихость. Ощущение это было не выразить словами, но оно разом вошло в него, отрезвив и ободрив. Путана, разбойна, вся на случае была его жизнь, и он знал: когда входил в него этот знобящий, беспокойный холодок — надо ожидать всякого и быть ко всякому готовым. Пьяная бойкость, что толкнула его ответить офицеру у плетня — царевич повелел, ну так у нас все разом, — ушла, и он собрался в тугой кулак, готовый броситься в любую сторону, с которой объявится опасность. Однако шел он, похрустывая огурцом, ничем не выдавая произошедшей в нем перемены. И улыбка вновь растягивала ему губы, щурила глаза.
У воеводского дома их ждал гайдук пана Мнишека. Он оглядел Ивана с головы до ног, постно сложил губы, сказал невыразительно:
— Пан ждет. Идем.
Толкнул дверь. Она подалась со скрипом. Поляк моргнул белесыми ресницами.
Мнишеку, только по неведомому счастью избежавшему петли, когда Сигизмунд повелел повесить королевского казначея и назначить расследование о разграблении государственной казны, приходилось встречаться с разным народцем. Видел он вселенских бродяг, много других лихих людей, и Иван-трехпалый не вызвал у него и малейшего удивления.
Иван, войдя в палату, шапки не сорвал и поклона не махнул, а, пристукнув окованными каблуками, вольно сел на лавку, расставил колени и оборотился лицом к пану. В глазах было одно: мы — вот на — всей душой, а ты, пан, что скажешь? Дерзкий у него был взгляд, не холопий. Сидевший рядом с Мнишеком монах-иезуит сильно поразился тому, но вида не подал. Промолчал и Мнишек. Знал и готов был к этому: разное увидеть придется, а такое уж — куда ни шло. Всему время приходит — когда-то и холопа одернуть можно будет. Станется на то и час, и место.
Мнишек начал разговор издалека. Бывал ли Иван в Чернигове, знает ли тамошних жителей, есть ли у него знакомцы в городе и какие это люди?
Иван слушал молча. Соображал: к чему разговор и чем он закончится? И Мнишек, глядя на него, понял: правду сказал мнимый царевич — мужик не прост. Да, такой человек ему и был нужен.
— Ну, — поторопил, — ты, говорили, не из робких, что же молчишь?
— Хе! — хмыкнул Иван-трехпалый. — Какие люди, пытаешь? Как и у всех — в носу две дырки… В доме — Илья, а в людях — свинья… Слыхал такое, пан? Да еще и хрюкает… — Но смял смех и сказал уже твердо: — Бывал я в Чернигове. Знать, конечно, иных знаю. А воевода тамошний — князь Татев.
Иван стянул с головы шапку: жарко стало мужику — в палатах было натоплено — и на пана глазами стрельнул. Губы зло изогнулись. Хотел, видно, выругаться, но сдержался. Сказал только:
— Пороть воевода горазд. Это точно.
И все же зло вылезло из него наружу.