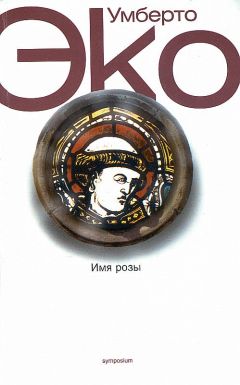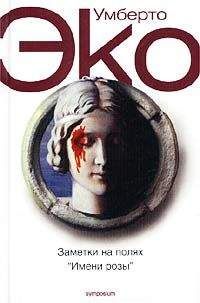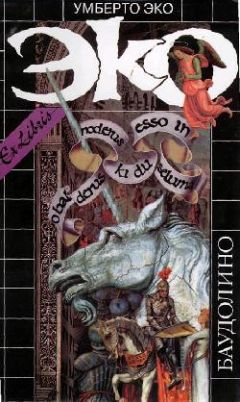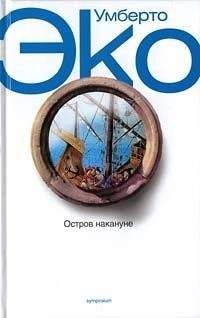«Ты можешь сказать, кто именно обошел его с назначением много лет назад?»
«Я не знаю. Он всегда говорит ужасно путано. И было это очень давно. Наверно, все перемерли. Но эти итальянцы, которые крутятся вокруг Алинарда, всегда говорят… говорили насчет Малахии… Что это марионетка, и кто-то им управляет, и все делается с ведома Аббата. А я, не соображая, что делаю, ввязался в борьбу двух группировок. Я только сегодня это понял. Италия – страна заговорщиков. Тут отравляют пап. Что уж говорить о бедных парнях вроде меня. Вчера я этого не понимал. Я думал, что вся суматоха из-за книги. Но сегодня я вижу все по-другому и понимаю, что книга – только предлог. Вы же видели, что Малахия до книги добрался, но его убили все равно. Я должен… я хочу… я хотел бы спастись. Посоветуйте мне что-нибудь».
«Для начала успокойся. Теперь тебе, значит, понадобились советы? А вчера ты хорохорился, как хозяин мира! Глупец! Если бы ты мне вчера помог, мы предотвратили бы последнее преступление. Это ты передал Малахии книгу, которая его убила. Но скажи мне хотя бы вот что. Ты эту книгу сам держал в руках, открывал, читал? И почему в таком случае ты не умер?»
«Не знаю. Клянусь, я вообще ее не трогал! Вернее трогал, там, в лаборатории, но только чтобы взять… Я взял ее и не открывал, а спрятал под одеждой, отнес в келью и засунул под тюфяк. Я понимал, что Малахия за мной следит, и тут же побежал в скрипторий. А потом, когда Малахия предложил мне место помощника, я повел его в келью и указал, где лежит книга. Все».
«Не ври, что ты ее вообще не открывал».
«Ну да, открывал, перед тем как спрятал… Но я только хотел убедиться, что это именно та книга, которую вы ищете. Там сначала шла арабская рукопись, потом другая – вроде бы по-сирийски, потом один текст по-латыни, а потом – по-гречески…»
Я снова как будто увидал обозначения, проставленные в каталоге. Первые два названия сопровождались пометками «Ар.» и «Сир.». Та самая книга! А Вильгельм все напирал: «Значит, ты касался книги и все-таки не умер. Значит, умирают не от прикосновения. Ладно. Что ты можешь сказать о греческом тексте? Ты его смотрел?»
«Почти нет. Только заметил, что название отсутствует. Такое впечатление, будто утеряно начало…»
«Безголовая книга…» – пробормотал Вильгельм.
«Я попытался прочесть первый лист. Однако, по правде говоря, греческого я почти не знаю… Мне надо было больше времени… Да, еще меня удивила одна вещь. Это как раз насчет греческих листов. Я даже просмотреть их не смог. Не удалось. Все листы… как бы это описать… Отсырели, что ли, и склеились между собой. Может, дело в этом странном пергаменте… Он мягче, чем обычный пергамент. Первый лист, самый затрепанный, вообще почему-то расслоился… В общем, странный пергамент…»
«Странный! То самое слово, которое употреблял и Северин!» – сказал Вильгельм.
«Да он вообще не похож на пергамент. Он вроде ткани, но очень хлипкий», – продолжал Бенций.
«Charta lintea, или хлопчатый пергамент, – сказал Вильгельм. – Ты что, никогда его не видел?»
«Я слышал о таком, но самому видеть не приходилось. Говорят, он дорог и недолговечен. Поэтому его используют редко. Он в ходу у арабов, кажется?»
«Арабы его открыли. Но теперь его делают даже здесь, в Италии, в Фабриано. Его делают еще… О-о, да это же бесспорно, ну да, совершенно верно!» И глаза Вильгельма засверкали. «Какое интереснейшее, замечательнейшее открытие, друг мой Бенций! Благодарю тебя от всей души! Ну да, я допускаю, что здесь, в библиотеке, хлопчатая бумага – редкость, потому что самые современные книги сюда почти не поступают. Кроме того, многие опасаются, что бумага не выживет в веках, как выживает пергамент. И, наверно, справедливо опасаются… Хотя, может быть, здесь нарочно выбран такой материал, про который не скажешь: “бронзы литой прочней”? Тряпочный пергамент, да? Превосходно. До свидания. И не волнуйся. Тебе ничто не грозит».
«Правда, Вильгельм? Вы уверены?»
«Уверен. Если не будешь высовываться. Ты и так достаточно напортил».
И мы удалились из скриптория, оставив Бенция если не в более веселом, то хотя бы в более спокойном расположении духа.
«Идиот, – цедил сквозь зубы Вильгельм, спускаясь по лестнице. – Мы бы уже во всем разобрались, если бы он не путался под ногами».
В трапезной мы увидели Аббата. Вильгельм подошел прямо к нему и попросил аудиенции. На этот раз Аббону некуда было деться, и он назначил встречу через несколько минут в его собственном доме.
где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено
Покои Аббата находились над капитулярной залой, и из окна поместительной и пышной комнаты, где он нас принимал, видна была в эту ясную, ветреную погоду, поверх монастырской церкви, массивная громада Храмины.
Аббат, стоя напротив окна, в эту минуту любовался ею; когда мы вошли, он торжественно указал на нее.
«Изумительная крепость, – сказал он, – воплощающая в своих пропорциях золотое сечение, предвосхитившее конструкцию арки. Она твердится на трех уровнях, ибо три – это число Троицы, это число ангелов, явившихся Аврааму, число дней, которые Иона провел во чреве великой рыбы, которые провели Иисус и Лазарь в своих гробницах; это столько же, сколько раз Христос умолял Отца Небесного пронести горькую чашу мимо его уст; столько же раз Христос уединялся с апостолами для молитвы. Три раза предавал его Петр, и три раза он являлся своим последователям по воскресении. Три существуют богословские добродетели, три священных языка, три отделения души, три вида наделенных разумом существ: ангелы, люди и бесы, три составляющие звука: тон, высота и ритм, три эпохи человеческой истории: до закона, при законе, после закона».
«Поразительное стечение мистических соответствий», – согласился Вильгельм.
«Однако и форма квадрата, – продолжал Аббат, – наделена спиритуальной поучительностью. Четыре суть добродетели основные, четыре времени года, четыре природных элемента; вчетвером существуют жар, холод, влажность, сухость; рождение, взросление, зрелость, старость; четыре суть рода животных – небесные, земные, воздушные и водные; четыре определяющих цвета в радуге; раз в четыре года рождается год високосный».
«Да, конечно, – отвечал Вильгельм, – а три плюс четыре дают семь, самое мистическое из всех числ, а при перемножении трех и четырех получается двенадцать, это число апостолов, а двенадцать на двенадцать даст сто сорок четыре, то есть число избранных». К этой последней демонстрации мистического постижения наднебесного мира числ Аббату уже нечего было добавить. Таким образом Вильгельм получил выгодную возможность перейти к делу.
«Хотелось бы обсудить известные вам события последних дней. Я долго размышлял о них», – сказал он.
Аббат, стоявший лицом к окну, повернулся и глянул на Вильгельма. Взгляд его был суров. «Я сказал бы, слишком долго. Не скрою, брат Вильгельм, от вас ожидали большего. С тех пор, как вы появились, прошло шесть дней. В эти шесть дней погибло, не считая Адельма, еще четыре монаха. И двое арестованы инквизицией. Арестованы, конечно же, по справедливости, и все-таки этот позор мы могли бы предотвратить, если бы инквизитору не пришлось самолично заняться неразгаданными убийствами. В довершение всего, важнейшая встреча, при организации которой я выступал посредником, именно из-за этих вскрывшихся безобразий дала самые плачевные результаты… Согласитесь, я имел основания надеяться на более успешный ход дела, когда договаривался с вами о расследовании гибели Адельма…»
Вильгельм виновато молчал. Разумеется, прав был Аббат. Еще в зачине повести я указывал, что мой учитель обожал изумлять людей стремительностью дедукций. Можно вообразить, до чего было уязвлено его самолюбие обвинениями, и отнюдь не беспричинными, в нерасторопной работе.
«Вы правы, – отвечал он. – Я не оправдал ожиданий. Но мне хотелось бы, ваше высокопреподобие, объяснить – почему. Ни одно из преступлений не связано ни с местью, ни с какой-либо враждой между членами обители. Преступления совершаются в силу особых причин, вытекающих из давней истории вашего монастыря…»
Аббат нетерпеливо перебил Вильгельма. «Что вы хотите сказать? Мне тоже ясно, что ключ к преступлениям не в биографии злосчастного келаря. Злодейство келаря совпало с иным непотребством, о котором я некоторым образом извещен. Однако, увы, я не имею права сказать о нем вслух… Я надеялся, что вы дойдете до него своим умом и сами скажете…»
«Ваша милость имеет в виду сведения, полученные во время исповеди?» Аббат отворотил лицо. Вильгельм продолжал: «Если ваше высокопреподобие желает узнать, смог ли я сам, безо всяких подсказок вашего высокопреподобия, узнать о существовании недозволенной связи между Беренгаром и Адельмом, с одной стороны, и между Беренгаром и Малахией, с другой, – ну так вот, узнайте, что в аббатстве это знают все и каждый».