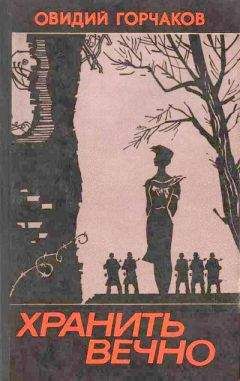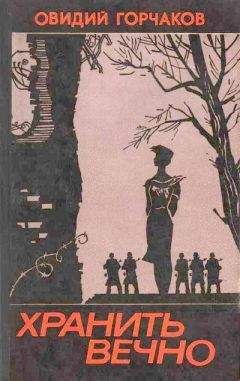— Здесь! — Я ложусь и кладу полуавтомат дулом поперек нижней перекладины забора. — Сазонов! Шпарь за Гущиным!
Сазонов сполз в кювет и пропал, словно провалился сквозь землю. Над лесом, над щербатиной шляха в лесной стене всплывал узкий, косой полумесяц.
Сазонов перестал вдруг дышать. И я услышал — не то чтобы услышал, а нутром почуял — какой-то шорох, чужой и зловещий, непохожий на привычные ночные шорохи.
— У моста! — прошептал ветерок губами Сазонова. — Часовой, наверное! — снова вздохнул ветерок.
— Наверно, наши разведчики,— прошептал я.
Безмолвно темнеют впереди поселковые дома. Месяц серебрит покрытые росой гребни крыш. В звонкой тишине нестерпимо медленно тащатся секунды. Я прислушиваюсь к ошалелому стуку собственного сердца. Кажется, это ночь стучит — как тиканье часовой мины перед взрывом.
Слабое шуршанье известило о подходе пулеметного взвода Гущина. Пулеметчики расположились рядом, быстро и бесшумно — лязгнула только пулеметная лента. В полном молчании, затаив дыхание, сжимая в окаменелых руках оружие, лежали мы, ожидая... По небосклону чиркнула сине-зеленая искорка — то ли трассирующая, то ли звезда.
Снова шуршание и легкий хруст. Кухарченко идет! Недолго осталось ждать, скоро начнется! Куда запропастилась разведка? Лежим. Тревога то возьмет в ледяную лапу сердце, то отпустит... Ближе. Ближе. Вот захлюпала слякоть в канаве. Я приподнялся и увидел в кювете вереницу шатких теней. По широким плечам и низкой фигуре узнал Кухарченко.
На этот раз мы явственно услышали хриплый шепот у моста...
Гроза разразилась внезапно. Все вокруг вдруг загремело и вспыхнуло светом ярче дневного, словно взорвалась сама ночь. Оглушительный залп разорвал тишину, и раскаты его, не умолкая уже, слились в сплошной грохот.
Я опомнился, пришел в себя, когда очутился на озаренном ракетами шляхе. Перелетев через кювет, я пополз по полю туда, где над косогором высился лес, полз, замирая, когда вспыхивала надо мной ракета и клевера казались залитыми ярко-зеленой анилиновой краской, когда пули ложились слишком густо и стригли траву огненные трассы пулеметных очередей из МГ-34 — каждый пятый патрон в ленте трассирующий.
От росистого клевера сладко и мирно пахло медом. От воронки в клевере — железом и порохом. Остро, в самое сердце кольнула тоска, мгновенная тоска по красоте и великолепию мира, с которым я вот-вот мог навсегда расстаться. Меня бросало то в жар, то в холод, словно от ракет плыли горячие и ледяные воздушные волны. В дрожком магниевом свете ракет лица товарищей были страшными, почти неузнаваемыми, как на бледном негативе... Евсеенко тащил на себе станкач. Я подполз к нему и помог ему снять треножник. С треножником на спине я снова пополз вверх по ядовито-зеленому бугру. Слева и справа загорались, взмывали и падали ракеты. В их свете лес словно выскакивал вперед — «вот я! уже близко! скорей, скорей!». Когда рассыпались шипя и гасли ракеты, лес отскакивал назад, пропадал, на небе слабо проступал месяц, несмело загорались звезды, но тут же тушил их новый сноп ракет. Одна ракета сгорала низко, почти над самой головой, и была она такой ярчайшей белизны, что березы впереди вдруг показались черными Немцы не унимались, палили из пулеметов и автоматов, били по полю и опушке из минометов, но ни убитых, ни раненых я не замечал. Воздушной волной от взрыва мины у меня сорвало фуражку с головы... Я вскочил — бросок к лесу — я окунулся в спасительную лесную мглу.
Мельком глянул на светящийся циферблат. Немцы открыли огонь в полночь. Сейчас
— три минуты первого. Три минуты!..
В лесу шарахнулись от меня брошенные ездовыми кони. Задыхаясь, сбросил треножник на телегу, расправил плечи... С поля сквозь черную листву сочилось сияние ракет. В кустах — треск, дробный топот. С лихорадочной быстротой подтянул супонь, взнуздал, отвязал вожжи. Кто-то промчался стремглав мимо, не оглянувшись на мой оклик. Что делать с другой подводой? Из кустов вынырнул Володька Терентьев. Он помог вывести лошадей на шлях, где мы сразу же попали в полосу мерцающего света. Вдоль шляха бежали партизаны, искали командиров, товарищей...
Около нас очутился Сазонов. Я кинул ему вожжи, пошел разыскивать Кухарченко. На шляхе, освещенном ракетами, плясали фантастические отблески и тени. Кухарченко стоял у самой опушки. Он высадил с досады полдиска в сторону поселка, прокричал мне:
— Слышь? Танк гудит, средний, кажись...
— Откуда его черт принес? Потери есть?
— Я почем знаю! Кажись, нет. Пошли!
«Что произошло? — думал я, шагая в ногу с Кухарченко. — Немцы не дремали, и, судя по силе огня, их там гораздо больше тридцати. Неужели часовые нас заметили? Куда пропал Дзюба? Не думают ли фрицы пуститься за нами в погоню? Но как все удачно получилось, просто чудо — такой огонь, а «Сокол» и крыльев почти не опалил! Разве так нужно устраивать засады? А еще эсэсовцы!»
— А где братва? — спросил Кухарченко,— Мать-перемать!.. — Он ускорил шаг, вспомнив вдруг о своих командирских обязанностях.
Пока мы догоняли лошадей, по одному, парами, группами, к .нам присоединилось человек двадцать. Отряд Дзюбы пропал, а у нас не хватало Щелкунова, пулеметчика Евсеенко, Гущина, мы не досчитались еще человек десяти — пятнадцати. Где они все? Шли молча — не шли, а скользили быстро и плавно, часто оглядывались на бледное зарево над лесом, с безотчетной злобой, почти ненавистью прислушивались к адскому скрипу телег и бряцанью велосипедов, вслушивались в подозрительные лесные шорохи, вглядывались в непроницаемо темный лес... Когда лошади, погоняемые излишне жестокими ударами прикладов, рвались вперед, ездовые осаживали их с беззвучными проклятиями. Как-то по-особенному, всей спиной и затылком, чувствовалось, что позади
— глазастый и хитрый враг... Позади, впереди и кругом...
Когда шлях вывел нас на опушку леса, за которым теснились хаты Князевки, а стрельба позади поутихла, Кухарченко вспомнил про мед, собранный урядником для немцев: «Не возвращаться же в лагерь с пустыми руками!»
К нашему удивлению, урядник, отпущенный Кухарченко, оказался дома. Кухарченко с помощью Самарина вторично пришлось спасать его от озлобленных неудачей партизан. Забрав огромный снарядный ящик с медом,— в темноте он был черен, как деготь,— партизаны живо погрузили его на подводу и не мешкая отправились дальше. Минут через двадцать мы смело вошли в Недашево — полиция этого села была истреблена нами еще в начале июля. Выяснив, что сельский маслозавод восстановлен немцами, мы погнали подводы в знакомом направлении. Барашков минировал на случай погони недашевский мост.
— А ну шевелись! — распоряжался Кухарченко, поглядывая на великолепный месяц. — Надо до света управиться. А я тут загляну к одному типу за гитарой...
Уже прокричали петухи, когда склад маслозавода был перегружен на подводы.
Кухарченко шел по шляху, тренькая на гитаре.
— «Вот пришел Германии посол...» — напевал он под одобрительное ржание ребят популярнейший внешнеполитический, так сказать, вариант нецензурной песенки «Гоп со смыком» — патриотический отклик безвестного песенника на заключение тройственного пакта между Гитлером, Муссолини и японским микадо. «Черт побери! — осенило меня вдруг. — А ведь этот «Гоп со смыком» символ веры, политическое кредо «Лешки-фулюгана»!»
Он не допел песню. Немцы, сидевшие на чердаках недашевских домов и терпеливо дожидавшиеся рассвета, чтобы истребить нас всех до единого, увидев, что мы уходим, по сигналу своего начальника стали поливать трассирующими беззаботно шагавших по улице партизан. Сперва проревел МГ, и пулеметные трели были мигом подхвачены дробью винтовочных выстрелов и стрекотней автоматов. По улице неслышно из-за шума стрельбы промчалась подвода. На ней — ящик с медом. Бак держится крепко, а молочные бидоны свалились, расплескивая молоко. Мелькнуло перекошенное лицо Терентьева. Позади прыгал розовый бант на гитаре Кухарченко. На дороге валялась чья-то фуражка...
Через две-три минуты после начала обстрела почти вся группа собралась метрах в ста пятидесяти от Недашева, на пригорке перед оврагом, вокруг подводы с медом. Недосчитались четырех человек. За оврагом начинался лес... Но где же наши друзья?
Последним подошел Кухарченко. Он закурил, поглядывая в сторону громыхавших недашевских домов. Странное зрелище: на улицах ни души, а над крышами льются струи зеленых огоньков.
— Подводы оставили? — уничтожающе спросил нас Кухарченко. — Видали? Трассирующими лупят! Значит, засада не случайная — немцы нас ждали тут. — Он снова повернулся к нам: — Сливки, молоко и масло оставили?
Партизаны пожимали плечами, усмехались невесело:
— Не до жиру...
— Четырех наших товарищей оставили? — спросил он, запуская ложку в ящик с медом.
Мы молчали — крыть было нечем. Но виноватым никто себя не чувствовал. У партизан так частенько бывает: нарезай в обе лопатки, перекличкой потом займешься.