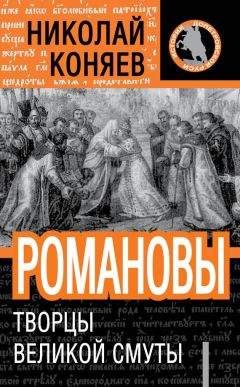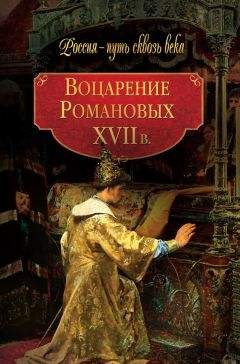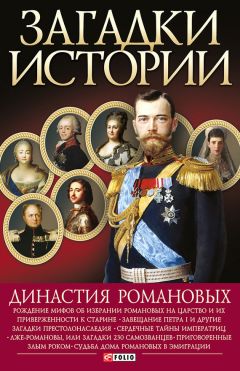Прошло все лето, началась осень, затем зима надвинулась. Датчанам разрешалось выезжать со двора, кататься по Москве, но с таким конвоем, что нечего было и думать о каком-либо решительном новом действии.
Королевич за это время сильно переменился, с лица осунулся, стал молчалив и ко всему как бы получил отвращение. Ничто его не занимало, не развлекало.
Иногда по целым дням лежал он на лавке. Порывы бешенства, отчаяния — все это прошло. Он убедился, что ничем не может помочь себе, что должен ждать помощи извне и нет у него никаких способов поторопить эту помощь. Появление Маши, свидание его с царевной представлялись ему далеким сном, от которого осталось только смутное, сладкое воспоминание.
К нему не доходило не только никаких вестей из терема, но даже и с царем он не видался ни разу. Всякая пересылка грамот, всякие переговоры были кончены, и с той и с другой стороны все уже оказывалось сказанным.
О чем было теперь говорить? И так слишком долго толковали об одном и том же; обе стороны крепко стояли на своем.
Конечно, королевич хорошо понимал, что от него зависит выйти из этого невозможного положения. Ему стоит только согласиться на требование царя и московитов.
Некоторые из его приближенных, не зная, что и делать, советовали было ему изъявить согласие на переход в православную веру, исполнить все обряды, спасти этим себя и своих людей, а потом, при первой возможности, снова вернуться к лютеранству.
Эти советы для королевича были большим соблазном. Он подолгу, с раздражением и злобой думал о том, как он отплатит своим мучителям.
Ну да, хорошо, он примет для виду православие; женится на царевне, но так как все это будет вынужденным, неизбежным для спасения свободы и жизни, — потом он уедет с женою в Данию и насмеется над своими мучителями.
Такие планы роились и развивались в горячей голове его; сердце кипело. Но вот проходили часы злобного раздражения, и благоразумие взяло верх. Он начинал ясно видеть, что такой образ действий и недостоин его, и чересчур рискован. В нем поднималась гордость, самолюбие, чувство собственного достоинства, и он уже не слушал своих советников и на все слова их только качал головою.
— Прежде всего неизвестно, спас ли бы я себя этим? — говорил он. — А главное, я не хочу обманывать ни людей, ни Бога, не хочу действовать так, чтобы отец мой мог меня стыдиться. Лучше умру, но останусь достойным сыном короля Христиана.
И тянулись скучные, однообразные дни, недели, месяцы.
— Не мытьем, так катаньем, а доймем мы «немца»! — толковали ближние бояре.
Однако все же пришлось сделать некоторые уступки. Из Дании от короля Христиана пришли к датским послам грамоты, и после долгого обсуждения решено было гонца пропустить, чтобы не нажить какой-либо большой беды и чрезмерных обвинений.
Послам датским разрешено было явиться к царю и представить полученную ими от короля грамоту.
28 ноября Пассбирг и Биллей были у государя с грамотами. Король Христиан, изумляясь столь непонятно долгому молчанию и проволочке, требовал, чтобы царь исполнил все то, в чем обязался по договору, заключенному с Петром Марселисом. В противном же случае чтобы он отпустил королевича и послов с честью.
Целый месяц молчал царь и только 29 декабря призвал к себе королевича.
Вольдемар даже отступил и вздрогнул, увидев царя, — так его поразила происшедшая в нем перемена. Перед ним был будто другой человек, ему совсем неизвестный.
Михаил Федорович сильно состарился, как-то опух. Цвет лица его был темен, в глазах никакого блеску. Он встретил Вольдемара уже не с прежней ласкою, да и королевич смотрел на него с едва скрываемой ненавистью.
— За что, ваше царское величество, вы меня так мучаете? — начал он прямо. — Зачем берете такой тяжкий грех на душу? Я перед вами ни в чем не повинен: я ни от чего не отступался и не отступаюсь. Сколько раз просил я отпустить меня, теперь вот и король, отец мой, того же просит, того же требует. Нельзя меня держать силою, если вы не желаете исполнить договор, заключенный вами с отцом моим.
Царь громко вздохнул и с большим трудом хриплым голосом проговорил:
— О чем тут толковать, нельзя тебе, без перекрещения, жениться на царевне Ирине, и отпустить тебя в Данию тоже нельзя, потому что король Христиан отдал тебя мне, царю, в сыновья. Крестись в нашу православную веру и будь мне сыном.
Королевич только блеснул глазами, сжал себе руки так, что они хрустнули, и молчал. Замолчал и царь, только было слышно, как тяжело он дышит.
Так и кончилось это свидание. Прошло еще несколько дней. Новый, 1645 год настал.
9 января[127] королевич написал царю:
«Бьем челом, чтобы ваше царское величество долее наг не задерживали; мы самовластного государя сын, и наши люди — все вольные люди, а не холопья; ваше царское величество никак не скажете, что вам нас и наших людей, как холопов, можно силою задерживать. Если же ваше царское величество имеете такую неподобную мысль, то мы говорим свободно и прямо, что легко от этого произойти несчастью, и тогда вашему царскому величеству какая будет честь перед всею вселенною? Нас здесь немного, мы вам грозить не можем силою, но говорим одно: про ваше царское величество у всех людей может быть заочная речь, что вы против договора и всяких прав сделали то, что турки и татары только для доброго имени опасаются делать. Мы вам даем явственно разуметь, что если вы задержите нас насильно, то мы будем стараться сами получить себе свободу, хотя бы пришлось при этом и живот свой положить».
Получив это письмо, царь послал на королевичев двор Шереметева, приказав ему сказать датским послам, чтобы они королевича унимали, чтобы он мысль свою молодую и хотение отложил. Если же, по его мысли, учинится ему какая-нибудь беда, то это будет ему не от государя и не от государевых людей, а самому от себя.
Послы на это отвечали Шереметеву, что они тут ни при чем, что королевич совещается не с ними, а со своими приближенными…
И опять потянулись скучные, холодные зимние дни. Королевич написал отцу, рассказав подробно обо всем и умоляя поскорее прийти к нему на помощь, выручить его, а не то он или с ума сойдет, или руки на себя наложит.
Письмо это было вручено гонцу, но очутилось в посольском приказе.
Для того чтобы Вольдемар не исполнил своей угрозы, не наложил на себя руки, его стали развлекать всячески. Устроили для него медвежью облаву, потом возили его на царскую потеху, на бой кулачный.
Пришлось поневоле всем этим развлекаться, во всем этом находить удовольствие, иначе действительно можно было сойти с ума.
— И нет никого, кто бы за меня заступился, кто бы внушил этим людям, что нельзя так поступать, как они поступают! — жаловался Вольдемар своим послам.
Наконец Пассбирг нашел союзника, в дело вступился польский посол Стемпковский, но как вступился! Он пришел к королевичу и стал его уговаривать исполнить царскую волю.
— Подумайте, принц, — говорил Стемпковский, — ведь царь, раздраженный вашим упрямством, может соединиться со Швецией против Дании, тогда вас заточат в дальние страны — подумайте хорошенько об этом!
Королевич подумал и послал Стемпковскому свой ответ в письме:
«Я могу уступить только в следующих статьях, — писал он, — Пусть дети мои будут крещены по греческому обычаю.
1) Я буду стараться посты содержать сколько мне возможно без повреждения здоровью моему.
2) Буду сообразоваться с желанием государя в платье и во всем другом, что не противно совести, договору и вере. Больше ничего не уступлю. Великий государь грозит сколько хочет, пусть громом и молниею меня изводит, пусть сошлет меня на конечный рубеж своего царства, где я жизнь свою с плачем скончаю, и тут от веры святой не отрекусь; хоть он меня распни и умертви. Я лучше хочу с неоскверненной совестью честною смертью умереть, чем жить с злою совестью. Бога избавителя своего в судьи призываю. А что королю, отцу моему, будет плохо, когда великий князь станет помогать шведам против него, то до этого мне дела нет, да и не думаю, чтобы королевства датское и норвежское не могли справиться без русской помощи. Эти королевства существовали прежде, чем московское государство началось, — и стоят еще крепко.
Я готов ко всему, пусть делают со мною что хотят только пусть делают поскорее!»
Но больше того, что уж было сделано, с Вольдемаром ничего не делали.
— Крепкий паренек, выносливый, — толковали про него ближние бояре царские, — а все ж таки мы его переупрямим. Год выдержал, другой выдерживает. А не наступит еще конец второго года, сдастся он, чай жить тоже хочется, а это что за жизнь! В плену! Еще как обойдется-то! И вот как, Бог даст, уладится все, пройдет год-другой, сам станет на себя дивиться: из-за чего так долго ломался. Выдержать только надо, не уступать. Хоть мягок государь, а в этом деле он не уступит!…
И не уступал Михаил Федорович. Он знал, как и все знали, что хоть помирать, а в таком деле уступить невозможно. И помирал он от этого дела, тоскуя и мучаясь, ни в чем не находя себе утешения.