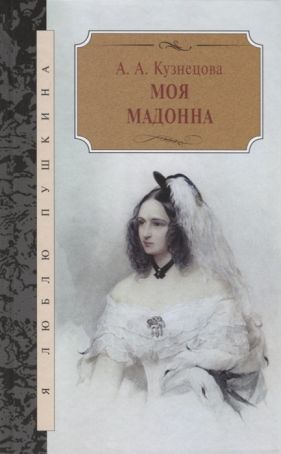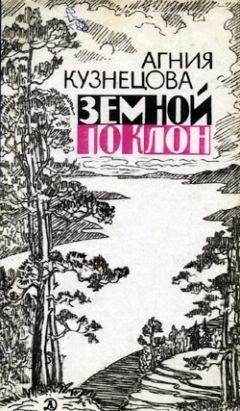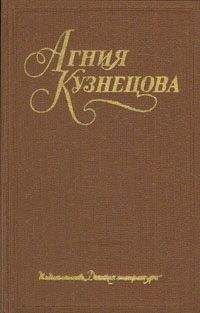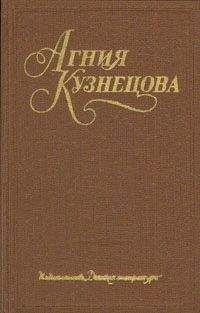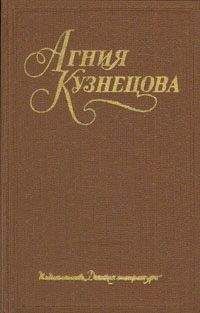Эта простота его Наташи, ее тихость, так непохожая на представительниц «светской черни», всегда пленяли Пушкина.
12
И, уже засыпая, Долли думала о том, что той читательнице, которая сегодня доставила ей столько хлопот, можно было еще рассказать, как в 1829 году Пушкин приехал в Москву. Гончаровы приняли его холодно. Он уехал в Петербург в полном отчаянии, и в этом состоянии родились превосходные стихи:
Я вас любил; любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим.
Долли собиралась домой. В маленькой комнате для завтраков, где помещался только небольшой столик с тремя стульями, она надела пальто, шапочку, взяла в руки сумку и остановилась напротив продолговатого овального зеркала, висящего на стене.
«И что это Грише нравится моя внешность? — подумала Долли. — Не понимаю. Самая заурядная. Особенно грустно становится глядеть на себя, когда читаешь пушкинские стихи: „И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой“… Гриша говорит, что я перевоплощаюсь, когда перехожу на пушкинские темы. Но вот сейчас даже вслух процитировала пушкинскую строку, а глаза все те же. Румянца не прибавилось. А может быть, я хорошею, когда гляжу на него, Григория? И он видит меня такую, какую не видит никто. Вот это возможно. От любви все хорошеют. Наверное, и я тоже…»
Ее размышления прервала девушка-библиотекарь. Она почти ворвалась в маленькую комнатку — этакая широкоплечая здоровячка спортивного типа.
— Долли, опять этот инвалид Мышкин пришел. Тебя спрашивает. Я схитрила, говорю, кажется, ушла. Сказать, что ушла?
— Ой, пожалуйста, скажи.
— А может, все же позвать его? — спросила девушка, внезапно меняя тактику. — Скажи ему несколько ласковых слов, и он будет утешаться ими неделю. Тащился ведь повидать тебя…
— Ну позови, — нерешительно согласилась Долли, расстегивая пальто и снимая шапочку. — Позови. Что поделаешь… — И она вздохнула.
Немного погодя в дверях появился Мышкин, слишком полный для своих молодых лет и чуть-чуть даже обрюзглый. Тяжело передвигая ноги и опираясь на трость, он вошел в комнату. Серьезно, без улыбки поздоровался с Долли, глядя на нее усталыми, пустыми глазами.
— Садитесь, Валя, — Долли придвинула ему стул.
Он сел, не выпуская из рук трости, точно и сидя боялся лишиться этой опоры, и проговорил, словно продолжая уже начатый разговор:
— Вы сказали, но сказали, вероятно, не то, что думали.
— Это о чем, Валя? — не поняла Долли.
— Это все о том же, Дарья Федоровна, о тех мыслях, на которые натолкнули меня книги, рекомендованные вами, и ваши записи, вернее, новелла. Я сказал вам и повторю вновь, что человеку в моем положении жить не нужно. Делать то, к чему есть призвание, я не могу. Тянуть лямку сторожа — не желаю. У меня высшее образование. Я инженер. Но я видел, как смотрели на меня, когда я предлагал работать инженером. Они, правда, соглашались из человеколюбия взять меня на работу. Я-то понимаю, какой я инженер! Это же вынужденное. Я всегда мечтал быть геологом. Личной жизни у меня никогда не будет. Кому нужен безногий?
— Валя, что случилось? Отчего у вас такое мрачное настроение и все кажется вам в черном цвете?
— Нет, Дарья Федоровна, я просто не хочу больше скрывать от вас, какой я есть на самом деле.
— И все вы преувеличиваете! Просто не хотите немного побороться за себя. Зачем вы взялись быть сторожем? Это же глупо. Это какая-то достоевщина. Недаром вы Мышкин. Давайте вместе подумаем, куда обратиться. Я кое с кем из читателей посоветуюсь. А то, что вы без ног, так это известно только вам да тем, кому вы упорно рассказываете об этом. А те, кто вас видит, думают — просто ноги не очень здоровые, потому и опираетесь на трость. Может, осложнение после болезни и пройдет скоро. Ну, а уж если вы коснулись личной жизни, поверьте, настоящую любовь не удержат, не испугают ваши ноги. Любят человека, а не его внешность…
— А вы могли бы полюбить безногого? — перебил ее Мышкин.
— Конечно, если бы его человеческие качества пришлись мне по душе. («О, боже мой, куда его занесло!» — подумала Долли.)
— Ну вы, Дарья Федоровна, человек особенный. Таких девушек, как вы, больше нет.
— Есть, Валя, только не замыкайтесь в себе, приглядитесь.
— Подождите, Дарья Федоровна, еще один важный для меня вопрос. Последний. И я уйду.
— Я слушаю.
— А меня вы могли бы полюбить?
Долли долго молчала. Она понимала, что от ее ответа зависит многое в состоянии, может быть, даже в жизни Мышкина. Но, очевидно, надо было все же говорить правду.
— Я могла бы, Валя, полюбить вас, если бы не любила другого.
— Спасибо, — сказал он. Встал и тяжело шагнул к дверям. Не оборачиваясь, добавил: — Вашу новеллу о поэте Козлове я передал библиотекарю вместе с книгами. Козлову все же было чем жить. Он был поэтом.
Мышкин не попрощался и ушел.
Долли сидела, все так же не двигаясь. Ей было очень жаль Мышкина. В душе ее поднималась то ли тревога, то ли предчувствие беды с оттенком досады на то, что она оказалась связанной с