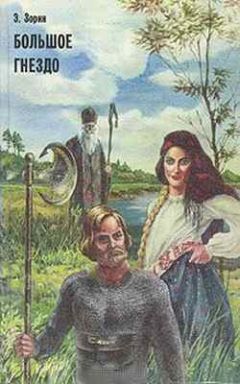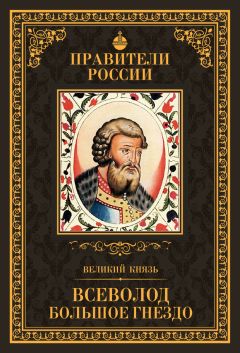— Мухи, Варвара, с осени перевелись, а мужской обычай отколь мне знать? Я — поп, не по сану мне гоняться за бабьими подолами.
— Поп, поп, — проворчала Варвара, — так почто речи непотребные завел? Почто меня смущаешь?
— Да разве я хотел тебя смутить? — сказал Четка. — Я ведь к слову…
— А слов таких не было.
Четка поморщился и покачал головой.
— Леший вас, баб, разберет. Николи не знаешь, чего вам надо.
— Ты и не разбирайся. Куды нос свой в чужие дела суешь?
— Да с каких пор твои дела-то мне чужими стали? — удивился Четка.
Варвара подошла к печи, вынула ухватом с огня глиняный горшок, поставила на стол, стала ложкой выгребать из него в общую мису хлёбово.
— Чем языком-то молотить, ступай, похлебай чего, — ворчливо пригласила она Четку.
Ели молча, хлёбово подносили бережно, подставляя под ложки ломтики ржаного хлеба. Четка жмурился от удовольствия и громко причмокивал. Варвара ела спокойно, не спеша, смотрела на стену поверх Четкиной головы. Насытившись, отложила ложку, неторопливо вытерла убрусцем губы.
Четка выскреб из миски остатки хлебова, срыгнул и блаженно откинулся на лавке.
Сложив крест-накрест полные руки на столешнице, Варвара сказала:
— Нынче мне недосуг с тобой толковать — гостей полон двор, работы и до вечера не избыть.
— Всем великое беспокойство, — кивнул Четка, — одному мне праздник.
— Чо это?
— А княжичей мне ныне для науки не дают. С утра в баньке парят, наряжают, как на выданье. Княгиня-то вовсе с ног сбилась.
— Чего ж ей не сидится?
— Да ты что? — удивился Четка. — Аль ничего не слышала?
— Отколь мне слышать, ежели с утра до вечера у печи?
— Новгородцы прибыли…
— Про то ведаю.
— Владыко Мартирий в пути у них преставился…
— И об этом сказано было.
— Святослава отдают в Новгород князем…
— Да ну?! Слабенькой он, куды ж ему княжить-то?
— Вот и княгиня тревожится. Оттого с утра и на ногах. Последние-то деньки хочется побыть рядом с княжичем. Изревелась вся. А князь сердится…
— Какой матери свое дите не дорого?
— Про то и я говорю. Да у них обычай свой… Вот и едет в Новгород, хотя и малец. Константин дюже сердится…
— Чего ж ему сердиться-то, — не поняла попа Варвара. — Он при матери остался.
— То-то и оно, что остался, — сказал Четка. — Вроде бы и хорошо, а вроде бы и обида — почто не ему дали новгородский стол. Он батюшке-то своему так при мне и сказал: «Почто, говорит, батюшка, меньшого сажаете в Новгороде, почто не меня?»
— А князь?
— У князя, должно, свои задумки. Покачал так головой да и отвечает: «Не спеши, Константин, придет и твой черед». Княгиня хоть и тому порадовалась, что не Юрия, любимца ее, послал княжить Всеволод.
— А все равно сердце-то материнское в тревоге.
— Знамо…
Когда Четка вышел от Варвары, на улице шел крупными хлопьями снег. Ветер стих, потеплело. В детинце, а особенно поближе к княжескому крыльцу, людей было видимо-невидимо. У коновязи места не хватало для лошадей. Всюду возки, сани, у конюшен сложены вдоль стен седла. Туда и сюда, тесня народ, сновали гонцы, взбегали на крыльцо, спускались вниз. Все куда-то торопились, толкали друг друга, сновали, покрикивали, считая, что их дело важнее иного всякого.
За воротами детинца людей было не меньше. Но люд здесь выглядел поскромней: ни ярких кожухов, ни сафьяновых сапог, ни коней под дорогой сбруей, ни собольих высоких шапок — простые шубейки, лапти да чоботы, худые лошаденки, простые суконные шапочки и заячьи треухи.
Народ жаждал увидеть послов из Новгорода и ждал угощенья. Но Всеволод, не урядившись с новгородцами до конца, не спешил выставлять меды и брагу.
В воротах Четка столкнулся со Словишей. От него и узнал он, отчего случилась задержка.
Именитые новгородские мужи, совсем уж было сговорившись, заспорили со Всеволодом, который поставил им не только своего князя, но и своего владыку Митрофана.
Отродясь такого не бывало, чтобы князь, да еще не свой, ставил в Новгород духовного пастыря. Владыку избирали всем миром и тянули жребий, а после отправляли к митрополиту на поставление.
— Ну и как? — спросил Четка.
— Так куды же им подеваться? — весело сверкнул зубами Словиша. — Спорь не спорь, рядись не рядись, а здесь новгородцы в нашей воле.
— Недужно им…
— Да уж чему радоваться.
Поговорив со Словишей, дальше отправился Четка, с трудом продирался через густую толпу.
Чуть поодаль от детинца людей было меньше, а в ремесленном посаде и вовсе поредела толпа. Как и в любой из обычных дней, доносилось из мастерских постукивание молоточков, от кожемяк пахло кожами, от кузнецов — древесным дымком и каленым железом.
— Куды, Четка, бежишь, ровно на пожар? — окликнул его Морхиня. — Заходи в гости.
«А верно, куды это я разогнался? — подумал поп. — Ровно бы и дела никакого нет…»
Зашел к Морхине в кузню, поглядел, где бы присесть. Всюду кучи железа навалены, везде уголь и пыль, юноты вздувают мехи, в горне гудит белое пламя. Жаром так и несет, так и пышет в лицо.
— Садись-ко, — пододвинул Морхиня Четке березовую колоду, — отдохни.
Сам отвернулся тут же, выхватил клещами из пламени светящуюся подкову, бросил на наковальню, стал сбивать окалину маленьким вертким молоточком. Постукивая, выспрашивал у попа:
— Каково встречает новгородцев князь?
— С утра в гриднице.
— А слушок-то какой прополз?
— Слушок разный.
— Поклонились князю, Святослава просили?
— Кого просили, не ведаю, а только Нездинич шибко злой был. А что Святослава сажает Всеволод в Новгород — то верно, сам из князевых уст слыхал.
— Нешто усобице конец?
— Деться им некуды. Слава те, господи, без нашей кровушки обошлось.
Глядя на подковку, Морхиня узко щурил глаза, говорил прерывисто:
— Бывал я в Новгороде. Жил в Неревском конце. Искусные у них ковали. Они меня иучили. Мечи ковать. Делать замки. Славные в Новгороде замки. Слышал?
— Как не слышать.
— Народ веселой. Когда хмельной, а когда и суровой. На все руки мастера. Гордые.
— Всяк русский горд.
Морхиня оторвался от наковальни, подхватил клещами и снова зарыл подкову в красные уголья.
— А вот поди ж ты, — сказал он, вытирая со лба пот рукавом рубахи, — всё делимся, всё с рядом ездим из удела в удел, а урядиться не можем. Чо делим-то?
— Аль твои ковали делят?
— Ишь ты куды хватил! Головастой, — усмехнулся Морхиня,
Прогревшись до самых костей возле жаркого горна, Четка распрощался с кузнецом. Не терпелось ему первым добрым вестником пройти по всему посаду. Бегал он со двора на двор и всюду был желанным собеседником.
К вечеру охрип Четка от разговоров. Вернулся на княж двор едва живой, но счастливый. Не зря пропал день.
А в тереме отроки с ног сбились, разыскивая попа.
— Это где же тебя черти носили? — сурово спросил наконец-то появившегося Четку Всеволод.
Оторопел поп. Однако князь был в хорошем расположении духа. Выслушав сбивчивые оправдания Четки, сказал:
— Готовься в путь, отче. С утра поедешь в Новгород со Святославом.
— А как же другие княжичи? — пролепетал ошарашенный Четка.
— Святослав первым едет князем на сторону. Ему грамота твоя нужна. Да и глаз чтобы рядом был. Чуешь?
— Чую, княже, — захлебнувшись от радости, воскликнул Четка и кубарем выкатился из гридницы.
Узнав о его отъезде, Варвара всплакнула, сунула в руки узелок со стряпней:
— Пригодится в дороге.
Четка тоже расстроился, но грусть его была недолга. За хлопотами да заботами быстро истек недолгий зимний вечер.
А утром длинный обоз с уложенным в колоду покойным Мартирием и новым новгородским князем тронулся через Серебряные ворота на Ростов под долгий перезвон соборных колоколов.
3
Мирошка Нездинич думал, что и его отпустит Всеволод в Новгород: дело сделано, чего же еще?
Да не тут-то было.
Накануне сидели в гриднице думцы, и Нездинич был с ними. Теперь держался он с остальными на равных, князю в глаза глядеть не опасался. Вместе утверждали они Митрофана владыкой, Всеволод даже совета у Мирошки спрашивал, справлялся, как поведут себя новгородцы: доселе не приходилось им принимать к себе пастыря из чужих рук.
— Пущай привыкают, — говорил Мирошка, — старые времена кончились.
— Ой ли? — качал головой Всеволод. — Не верю я что-то вашим крикунам.
— Ефросима сызнова во владыки не кликнешь — шибко разобиделся старец. А другого у нас на примете нет, — с кротостью отвечал Мирошка.
— Другого нет, — соглашался Всеволод, — да долго ли сыскать?
Забеспокоился посадник: что-то еще задумал князь? Покосился на думцов — те сидели с каменными лицами, только Кузьма Ратьшич улыбался едва приметно.