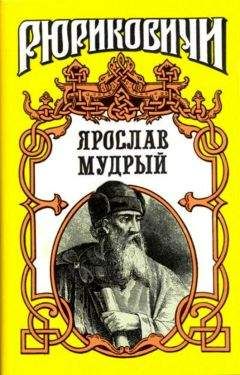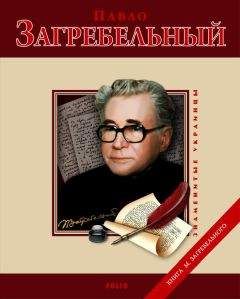Антропосы спасались от мрачных видений и от отчаяния в молитвах, старшие из них, не имея больше надежд, постригались в монахи. Вот уже и тут, в Киеве, основали они возле самой Софии, на месте своего поселения, монастырь святого Георгия в честь князя Ярослава, и Мищило пристроился туда игуменом, но Сивоок остался со своими людьми; не мог он признать этого жестокого Бога, от которого всю жизнь лишь страдал; собственно, после гибели Иссы утратил он способность восхищаться малейшими радостями и удовольствиями, жил только великим делом своей жизни, жил в красках, в их свечении, в их музыке.
Теперь наступило то главнейшее, ради чего, по мнению Сивоока, принесены все жертвы и усилия: начиналось таинственное и непостижимое даже для того, кто стоял у самых его начал и истоков. Из ничего ты творишь еще одну вещь для мира, добавляешь к нему то, чего свет не знал и никогда бы не смог создать сам в своем равнодушии и беспорядке. Ты вносишь высокую гармонию в запутанность вещей, ты — творец, ты — выше Бога!
Мищило укладывал мозаику на стене под хорами — во славу основателя храма князя Ярослава. Работал медленно, старательно, подгонял кубик к кубику с такой тщательностью, что готовая мозаическая поверхность сливалась в сплошной блеск, этот блеск ослеплял, не давал возможности разобрать, что там изображено, — только сияние, блеск, чтобы знал каждый поднимающий глаза: перед глазами у него Бог, Богородица и князь, а все — сплошь свет, пылание, огненность.
Князь побывал в соборе, и ему понравилось, как Мищило укладывает смальту, чувствовалась рука мастера сноровистого, хорошо обученного, беда только, что работал Мищило больно уж медленно, в особенности же если сравнить с Сивооком.
Тот сидел в своем поднебесье, помощники носили ему раствор для накладки на стену, раствор также изготовлялся по советам Сивоока, к извести добавлялся толченый кирпич и мелкий угольный порошок, и в эту серовато-розовую накладку русокудрый великан, как-то словно бы не думая, броском вгонял кубики смальты и разноцветных камней, не заботился о приглаженности, не вылизывал, как Мищило, торопился, будто гнали его в шею, разноцветные кубики торчали из накладки и так и сяк, казалось, — никакого порядка нет в этих нагромождениях смальты и камешков; Мищило на удивленный взгляд князя лишь беспомощно разводил руками — дескать, дуракам закон не писан.
Ярослав на первый раз смолчал, но снова приходил в Софию и снова наблюдал удивительную картину; один, высунув язык, прилаживает кубик к кубику так плотно, что не просунуть иголки, а другой, вверху, швыряет смальту беспорядочно и произвольно, и пока этот внизу хлопочет до сих пор над одной лишь фигурой, тот вверху уже закончил Пантократора и принялся за его небесную стражу — архангелов, и все это у него — корявое, шероховатое, взъерошенное, растрепанное, как и он сам. И снова Мищило пожимал плечами и шептал что-то осуждающее. Дескать, разве мы не можем уложить всю смальту гладенько и ровненько?
Князь полез к Сивооку. Нелегкая это была дорога, никогда ему еще не приходилось взбираться по таким лесам, но он знал: властелин не должен отступать ни перед чем, должен испытать все.
Но когда он остановился позади Сивоока и глянул на его работу, он просто ужаснулся. Снизу был виден Пантократор в огромном медальоне, снизу архангелы (два уже готовы, третий еще не завершен) поражали своей тяжестью (о Боге нечего и говорить: он и вовсе бы какой-то тяжеленный, словно бы выложенный из большущих каменных квадратов, а не из легоньких сверкающих кубиков), снизу были краски, они сливались воедино, хотя и не так, как у Мищилы, а тут князь не видел ничего, кроме серого раствора, наложенного толстым слоем на стену, и беспорядочно натыканных в этот раствор неодинаковых стекляшек и камешков, гранями своими повернутых в разные стороны, как попало, в диком хаосе; самое же страшное заключалось в том, что Сивоок при появлении князя работы своей не прекратил, а продолжал и дальше втыкать свои камешки, молча протягивая к подручным то одну руку, то другую, работал молча, быстро, лихорадочно и сосредоточенно, словно Бог во время сотворения мира.
— Ты что же это вытворяешь? — гневно спросил князь, запыхавшийся от изнурительного карабкания в это поднебесье и возмущенный непочтительностью Сивоока, а еще больше непохожестью его работы на то, что показывал ему внизу Мищило.
— Что зришь, княже, — буркнул мастер.
— Ничего не вижу.
— Непривычен глаз имеешь, княже.
— А ты не учи меня! — топнул ногой Ярослав.
— Окромя того, на эту мусию смотреть надо лишь снизу, — успокаивающе промолвил Сивоок, — вельми велика она, чтобы обнять ее оком вблизи.
— Почто кладешь не так, как Мищило?
— За солнцем иду. Хоть где будет солнце, найдет себе отражение, и мусия будет весь день светиться одинаково глубоко. А у Мищилы — сверкает один лишь раз в день. Да и что это за блеск? Без тепла, без глубины, что лед холодный. А еще — будет класть твой Мищило свою мусию десять лет и не закончит. Люди рождаются разно: одни для работы мелкой, другие — для великой…
Сивоок говорил, не поворачиваясь к князю, продолжая укладывать смальту, делал это умело, быстро, как-то даже вроде бы весело.
— Считаешь, что так и нужно? — мягче спросил Ярослав.
— Вот это, что делаю? А как иначе? Никто не взялся за большие мозаики. Мало таких людей на земле. Меня когда-то отчаяние загнало на эту высоту, теперь слезать не хочется. А слезу — так тоже для дел великих.
— Чванишься или шутишь?
— И то и другое. Думаю, как скорее закончить церковь.
— Угадал мою мысль, Сивоок.
— Но с Мищилой, княже, не закончишь до скончания века.
— Недостроенный храм не хочу оставлять сыновьям и потомкам, — сказал Ярослав, видно, встав уже на сторону Сивоока в его дивно хаотичном и непостижимом, но уверенно решительном творении. — Не хочу!
— Я тоже, — весело сказал Сивоок.
— Ты еще молод.
— Но и не имею ничего. Ни сына, ни жены, ни крыши над головой.
Князь промолчал. Неустроенность людская его мало занимала. И не о себе пекся — о державе. Всегда и прежде всего.
— Сыновья у тебя хорошие, княже, — снова заговорил Сивоок. — Про дочерей не говорю, негоже мне молвить про княжьих дочерей, а сыновья вельми хороши. Есть у меня мысль. Хочу помочь Мищиле в его работе.
— Своей же имеешь эвона сколько! — удивился князь жадности этого человека к хлопотам.
— Закончу свое в пору. Мищило же будет мешкать там невесть как долго. А чтобы поскорее — можно объединить с его мусией фресковые образы твоих сыновей и дочерей с княгиней. Вот и взялся бы я и сделал бы вельми быстро и охотно.
— Прилично ли будет? Князь — в мусии, а семья его — в простой росписи.
— Роспись тоже можно сделать так, что не уступит мусии. На все есть способ. Когда-то жена карийского царя Мавзола Артемизия поставила ему после смерти надгробный памятник, и стены были украшены фресками такими гладенькими, что казались прозрачными и блестели, как стекло. И у эллинов и римлян были такие мастера. В заправу добавляли порошок мраморированный, поверхность накладки разглаживали горячим железом, а писали яичной краской, которая в обычной фреске не употребима. После окончания живописи ее покрывали пунийским воском и водили около самой поверхности раскаленным железом, не прикасаясь. Натирали сукном — и вот — блеск, как у отполированного мрамора или даже смальты.
— У меня державных дел хватает, — сказал князь, — чтобы забивать себе голову твоим пунийским воском и еще чем-то. Ты мастер — тебе и знать надлежит.
— А сам вмешиваешься в то, как мне укладывать смальту, — напомнил Сивоок.
— Ибо непривычно кладешь.
— Только тогда и есть искусство, когда непривычно. Власти это не по вкусу. Власти мило упрочившееся, она жаждет, дабы все на свете было одинаковым, ибо только тогда может уповать на свою незыблемость. А краса — лишь в неодинаковости. Возьми такое, княже: каждое растение имеет свой цветок, не похожий на других. А ежели бы все цветы да стали одинаковыми?
— Глаголешь много, — попытался свести разговор к шутке Ярослав.
— Ибо много работаю. — Сивоок в течение всего разговора ни разу не взглянул на князя и не прервал своей работы. Стоял на помосте, широко разметав руки, так, будто подпирал изогнутую стену купола, голова, задранная кверху, прочно лежала на плечах, срослась с ними навсегда от этого напряженного всматривания вверх, на свод; князь попробовал сосчитать, сколько дней, недель и месяцев стоит тут Сивоок, укладывая мозаики, вышло так много, что он ужаснулся, а впереди ведь было еще больше! И этот человек думает не об отдыхе, а ищет для себя еще работы, берется за новое, и кипят в нем какие-то непостижимые страсти, нарывается на споры с самим князем.
Отрок, сопровождавший Ярослава, раздвинул для князя переносный стульчик. Ярослав махнул ему, чтобы убрал. Не привык рассиживаться и вести разговоры с кем-либо при свидетелях. На всю жизнь запомнилось ему новгородское вече, перед которым выворачивал свою душу после расправы над воями Славенской тысячи, возненавидел после того все публичные радения и обсуждения, всегда, когда возникала потребность кого-нибудь выслушать, звал его к себе в палаты, слушал, с решением своим не торопился, оставаясь для собеседника загадочным, а следовательно — мудрым.