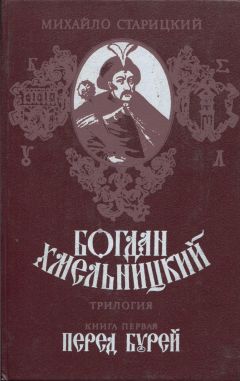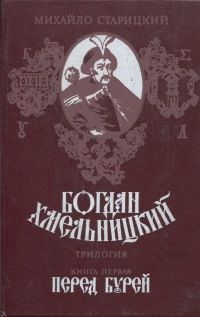— Так, так... Я знал это... Своих остерегайся горше врагов, — проговорил беззвучно Богдан; на лице его появилась горькая улыбка, а на лбу и возле рта выступили словно врезанные морщины, — веры нет ни у кого...
— Нет, нет! — горячо закричал Богун. — Поверили этому не все; Нечай, Чарнота, Кривонос, Небаба и другие ребра обещали перетрощить тому, кто распустил такой слух! А несмотря на это, товарыство роптало все больше и больше. Уже четвертый год шел без всякого дела, для харчей надо было затевать наскоки и грабежи, а из Украйны с каждым днем прибывали новые и новые рейстровики, которых Маслоставская ординация повернула в поспольство; они говорили о новых утеснениях, волновали все Запорожье и требовали восстанья, а от тебя не слыхать было ничего. Трудно стало сдерживать товарыство, тогда я послал к тебе Морозенка сказать, чтобы ты торопился...
— Что я мог сделать тогда? — вырвалось у Богдана.
Оба помолчали.
Передавать было нечего. Поквитоваться с надеждами нельзя было, а благословить на бой было рано, — сказал угрюмо Богдан, отошедши к окну.
— Ну, а тут примчался на Запорожье Пешта. Не сношу я этого хыжого волка, — сверкнул глазами Богун. — Он собрал раду и объявил на ней, что ты хочешь всех поймать в ловушку, что козаков ты усыпляешь обицянками, а сам в это время подсказываешь панам самые жестокие против них меры.
— Змея! — повернулся быстро Богдан, весь бледный, с налившимися кровью глазами. — Это плата за жизнь!
— Да, — продолжал Богун, — он говорил, что был с тобою на многих пирах, й всюду ты издевался над козаками, пел в одну дудку с панами, а на последней пирушке у Чаплинского, — он приводил в свидетели еще какого-то шляхтича, — ты сказал молодому Конецпольскому, что до тех пор, пока козаки будут живы, они все будут подымать головы, что только мертвые не пищат.
— А! — простонал Богдан, опускаясь на лаву.
— Кием хотел я расшибить ему голову! — продолжал еще более запальчиво Богун. — Но товарыство не допустило; тогда я головой своей поручился им, что все это ложь и клевета! Я просил их обождать еще хоть неделю и бросился сломя голову сюда.
— Голова твоя пропала, — произнес медленно Богдан, подымаясь с места.
Как окаменелый остановился перед ним Богун.
— Голова твоя пропала, говорю тебе, — повторил глухим голосом Богдан, с лицом бледным, как полотно, — я говорил это, да!
— Ложь! — крикнул Богун, отступая от него и хватаясь за эфес сабли. — Именем своим козацким поклялся я, что голову отсеку всякому, кто посмеет повторить на Богдана эту клевету...
— Ну, так вот она тебе, руби ее, — провел Богдан рукою по шее и гордо выпрямился перед Богуном, — потому что все это я говорил.
Сабля с громким стуком выпала из руки Богуна.
Пролетела минута молчания. Оба козака стояли один перед другим окаменевшие, неподвижные, словно готовились вступить в бой; только Богдан стоял теперь, смело выпрямившись, с глазами, горящими гордым огнем.
— Ты один мой помощник и покровитель, — произнес он наконец с чувством, подымая глаза на икону. — Один ты вложил мне теперь в руки возможность разбить эту черную клевету! Тебе, друже мой верный и коханый, — обратился он к Богуну, преодолевая подступившее волнение, — я скажу все, а перед другими, перед теми, что могли поверить этой черной клевете, не стану я говорить! Так, правда, я пил из одного ковша с панами, я бывал на их пирушках, я смеялся вместе с ними над козаками, спроси обо мне любого шляхтича, и он скажет тебе с верой, что Богдан Хмельницкий — свой человек! Все это делал я, принимал на себя всяческий позор, слушал панские шутки и, сдавивши сердце, вторил им на пирах, — все это делал я для того, чтобы заработать имя зрадцы козацкого, и я заработал его, но зрадой честного имени своего не покрыл! Вот, — проговорил он, отпирая в стене железную дверцу и вынимая оттуда сумку с золотыми и тайною инструкцией короля, — тут шесть тысяч талеров, это только задаток и приказание строить чайки для участия в предстоящей войне. Вот это, — вынул он дальше серебряную булаву, пернач и свернутое знамя{127}, — передай от короля козакам и скажи им, что его найяснейшая мосць возвращает им этими регалиями прежнюю свободу и призывает их к участию в войне.
Богдан тряхнул рукою, и с шумом развернулось огромное малиновое знамя; знакомый шелест наполнил комнату и коснулся уха Богуна; перед глазами его мелькнул золотой козацкий крест...
— Так! — гордо произнес Богдан, высоко подымая козацкое знамя своею крепкою рукой. — Все это я добыл своим долгим старанием, свези же его на Запорожье и передай товарыству, что зрадник Богдан Хмельницкий шлет запорожцам эту благую весть!
— Друже, брате, батьку мой! — крикнул бешено Богун, заключая Богдана в свои крепкие объятия. — Голову положу за тебя!
После первого порыва бурного восторга Богдан усадил Богуна рядом с собою и начал передавать ему подробно весь свой разговор с полковником Радзиевским, инструкции и распоряжения последнего.
Между тем Ганна, изумленная и встревоженная неожиданным приездом Богуна, с нетерпением ожидала выхода дядька. В своей тревоге она даже ни разу не подумала о той неизбежной неловкости, которая ожидала ее при встрече с Богуном: она словно забыла все то, что произошло между ними, охваченная одним мучительным сознанием неизвестности.
«Зачем он приехал? Откуда приехал? — повторяла она сама себе, то подымаясь наверх, то отправляясь в пекарню, то в погреб, то снова возвращаясь в свою комнату. — Его загнанный конь, видно, без отдыху скакал... О чем говорят они там так таинственно и тихо?.. Ах, верно, новое горе, — сжимала она руки, — новые муки впереди!»
Оксана и Катря с изумлением следили за напряженным волнением Ганны. С самого приезда Богдана все в доме привыкли видеть ее такой замкнутой и тихой, словно ее уже не занимало ничто, а между тем она таила в себе глубокую душевную муку. Сознание полного равнодушия со стороны Богдана убило все терзания ее совести, но вместе с тем наложило глубокую и тяжелую печать на все ее молодое существо. К тому же резкая перемена в образе жизни Богдана не могла ускользнуть от внимательного взгляда Ганны. Сначала она еще не придавала этому большого значения; но чем больше предавался Богдан шляхетским пирам и забавам, чем меньше обращал он внимания на окружающую жизнь, тем тяжелее становилось у ней на сердце. Ее оскорбляло до глубины души, когда он возвращался с какой-нибудь пирушки на третий, на четвертый день с лицом раскрасневшимся, неестественно возбужденным, с веселыми песнями на устах, когда он по целым неделям пропадал из дому, не справляясь ни об ужасных слухах, доходящих отовсюду, ни о здоровье жены и детей; тяжело было ей выходить угощать надменную и пьяную шляхту, которая так часто наполняла теперь их молчаливый угрюмый дом, но всего ужаснее было слышать те оскорбительные шутки и разговоры, которые держал с шляхтою в своем доме Богдан. О, как невыразимо мучительно было ей видеть своего когда-то гордого и самолюбивого батька в такой унизительной, холопской роли. Казалось, за все эти издевательства и насмешки над народом он должен был бы раскроить черепа этим наглым, пьяным панам, а между тем он, Богдан, — Ганна сама слыхала не раз, — он вторил им! И Ганна уходила наверх, запиралась в своей светлице, чтобы не слышать, чтобы не видеть этого ужаса; но пьяный хохот и крики достигали и туда.
— Боже мой, за что ты оставил нас? — шептала она, сжимая свою голову руками, и грудь ее надрывалась от горького, тяжелого рыданья, а голова с отчаяньем падала на подоконник. А снизу доносилась пьяная польская песня, в которой она ясно слышала могучий голос Богдана. Никто не знал, что переживала она в эти томительные ночи. Одни только звезды видели бедную, одинокую девушку, сгибающуюся от горького рыдания у темного окна. И когда она, измученная и истомленная, подымала к небу полные слез глаза, оно сияло над ее головою так величественно и безмятежно, словно говорило ей о мимолетности земных радостей и мук, и на душе ее становилось легче, светлее; звезды казались ей добрыми и ласковыми глазами каких-то неведомых друзей, глядящих на нее из той глубокой дали...
Между тем каждый день приносил все более грустные вести, а Богдан точно и не слыхал их, точно и забыл навсегда все то, чем жил до сих пор. Несколько раз в Ганне пробуждалась мысль отважиться поговорить с дядьком, но Богдан держал себя теперь так далеко от нее, что она никак не могла решиться на это. Ганна видела ясно, что дед хмурится, что брат ее угрюмо отстраняется от Богдана, что кругом против него растет недовольство, ропот и вражда, и она не могла сказать всем смело, что все это ложь и клевета. Иногда ей казалось снова, что все погибло, что спасения неоткуда и не от кого ждать, что они осуждены богом на вечное рабство; но сила несокрушимой веры в Богдана, а главное, в милосердие божие подымалась из глубины души и укрепляла ее. Тревожное ожидание дядьком посла из Варшавы зарождало в ней надежду на какие-то тайные планы, хранимые им.