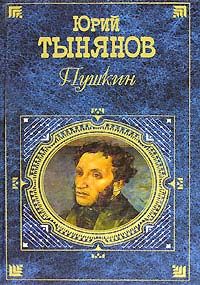Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон.
К кому взывает сей Пушкин? К толпе босоногих, безыменной? Бди, канцелярия! Бди, фон Фок! И, наконец, страшный по явности конец:
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он!
Князь невольно взялся двумя пальцами за застежку мундира и стал грудью вперед. Он не был бы Голицыным, если б не решил вопроса тотчас. Куда такого послать, как быть? Голубчик острит. С таким нужна острота, его, голицынская. Голубчик пишет в духе вольной черни? Он улыбнулся. Голицын принимал вызов. Он согласен. Будет тебе, Пушкин, вольность. Ты вольность возлюбил – получай ее!
Где возмущение? Где теперь сей дух? Где вольность?
Дух был в Испании. Там чернь восстала против законной власти – испанцы против австрийского короля, который явился ими править.
Завтра стало известно, что Пушкина высылают в Испанию!
Князь потирал руки.
Из страны, где идет пальба и резня – король против чужеземного народа, а вернее, народ против чужеземного короля, – из такого путешествия не возвращаются. Не вернется умник! Урок царям? – Урок поэтам!
И назавтра к Пушкину явились мальчики-студенты и все рассказали. Пушкин увидел эти мальчишеские пылающие лица, пожал руки, ему протянутые, и вдруг засмеялся, негромко и весело, хрипло.
– Испанцы победят, – сказал он, – и я вернусь с праздником. Голицын в дураках!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он!
Кто были эти мальчики? Под секретом, шипя и брызгаясь, назвались точно: воспитанники Благородного пансиона Педагогического института. Лучше всех лазают через забор. Поэтому здесь. Сейчас уйдут.
Откуда узнали голицынские секреты? Бог весть.
У него была защита. В Благородном пансионе преподавал и учительствовал Кюхля. Мальчики почитали его как бога.
35
Однажды за ним пришел квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в главное полицейское управление и сдал начальнику всей полиции – самому Лаврову.
Впрочем, все это было не так просто. Это был первый шаг. Пушкина, собственно, должен был вызвать в Особую канцелярию фон Фок. Сам фон Фок. Этот немец был не прост. Вызвал Грибоедова, и тот, вернувшись домой, стал жечь все им написанное когда-либо. К вечеру у Грибоедова стало жарко. Печь накалилась. Лавров был просто полицией. Дело было слишком ясно для фон Фока.
Лавров заставил ждать Пушкина всего три часа. Пушкин ходил по полицейскому залу, подошел к окну, но окно было завешено. Наконец Лавров вышел. Он посмотрел на Пушкина и пожал плечами.
– Невелик ростом, – сказал он негромко, удивленный.
Пушкин сдержался.
Лавров был прост – вот что было удивительно. Не чинясь, он показал на большой пузатый шкап и сказал:
– Это все ваше, за нумером.
Шкап был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него.
Выходило, что полиция давно была занята им. Лавров наконец объяснил, для чего здесь Пушкин.
В полицию его привели, потому что никто лучше не знал ни того, что говорилось недозволенного, ни тех, кто это говорил.
– Вот вы нам и станете докладывать, – сказал Лавров.
Пушкин засмеялся. Каков умник! Далеко до него Голицыну. Пусть поучится.
Тут оставил его Лавров, для размышлений.
Он был заперт.
Пушкин сидел в пролицейском управлении уже долго и вдруг загрустил. Он ничего не боялся. Полицейского – Лаврова – меньше всего.
И все же!
А когда вернулся к себе, уже темнело.
Лавров был тем известен, что признавал полицейскую старину, задумчиво смотрел на свой кулак, поросший волосом, и на арестованного. И арестант этот взгляд понимал. У него были свои привычки. Было особое полицейское уважение к знаменитым ворам и крупным убийцам. Пушкина он счел преступником крупным, но не пойманным. Тем лучше. Пусть подумает. Время есть.
36
Казалось бы, изменницы, основою всей жизни которых была измена, должны были быть самыми пылкими в самой измене, самой страсти, должны быть бешены, неукротимы, без устали предаваться любви.
Ничуть не бывало. Холодны, умеренны. Странная это была умеренность. Любовь была их делом, а интересоваться делом было скучно, неуместно. Они придавали себе цену, относясь небрежно, поверхностно к объятиям, страсти их не согревали.
Они были расчетливы и очень самолюбивы. Ревность их была холодна – торговая ревность, – а самолюбие бешеное.
Однажды он попал к такой, которая знала стихи, читала последние журналы, вообще была образованна. Она была модница.
– Теперь Вольтера никто не читает, кому он нужен?
Пушкин прислушался.
– А кто нужен? – спросил он.
– Бассомпьер, – сказала модница.
Был и такой. Она и его читала. В объятиях она зевнула. Между делом дважды выбросила высоко ножку и сказала равнодушно:
– А теперь опять.
Равнодушье было удивительное.
Он спросил ее имя. Имя было нерусское, нарочитое: Ольга Масон. Все заблужденья с ней были нарочиты, порок невесел. И Олинька Масон, и Лиза Штейнгель прибыли с разумной целью. Из недалеких мест, которыми бредили романтики, они приезжали не для страсти – ибо страсть крепка, – а для пользы вещественной. Ревнивые тетки со строгостью их сопровождали. Они умели быть незаметными. Они не мешали. Потом росли пуховики, прибавлялись вещи. И они уезжали для семейного счастья, оставляя скуку и неосторожное раскаяние. Бедность охраняла от гибели. Все же, когда Пушкин брел раз в надежде на ночной приют и вдруг карман его оказался пуст, он вспомнил солдатскую песенку о бедном солдате: «Солдат бедный человек», до конца почувствовал бедность и забормотал:
Пушкин бедный человек,
Ему негде взять,
Из-за эфтого безделья
Не домой ему идтить.
37
Спокойствие Федора Толстого стоило страстей. И молодые должны были это признать. А кто не признавал, тот скоро в этом убеждался волей или неволей. Он вовсе не стремился к дуэлям. Но и не бегал от них. Говорили уже, что до сотни жизней было за его дуэлями.
Он услышал, что Грибоедов в своей комедии о нем упомянул так:
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист.
И про Камчатку было верно и про алеутов. И, встретив Грибоедова, Федор Толстой сказал, чтобы он исправил стих и написал: в картишки на руку нечист. Не то подумают, что он таскает серебряные ложки со стола. Это его бесстрастие было более убедительно, чем дуэли.
Федор Толстой терпеть не мог светской уклончивости. Решал он все быстро и прямо. Имя Пушкина его занимало. Как все о нем говорят!
Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера и что все равно об этом судят, что неизвестно, что там было и что с ним в полиции сделали. Федор Толстой сказал об этом просто и кратко:
– Выпороли.
У франтов словно глаза открылись. И как же они раньше не догадались!
Через час одна пожилая дама рассказывала об этом с подробностями:
– В комнате один стол и ничего более. И стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами – и все происходит как нельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает.
К вечеру все об этом знали. Рассказывали, судили, рядили. Появлялись все новые подробности. К вечеру, идя по улице, Пушкин встретил троих знакомых, они взглянули быстро и отшатнулись. Или ему показалось?
Фон Фок кончал присутственный день в Особой канцелярии.
Будучи знаменит, он добился такого дня, когда не был упомянут никем, нигде. О Пушкине говорили, что он выпорот, высечен в полиции. Высеченный поэт важных стихов, заразительных стихов более не пишет. Все помнят, что он высечен. Более он не опасен. Пока, разумеется, он не выслан еще, но высечен. Высылка? Это большой вопрос. Не торопиться. Фон Фок успеет.
Между тем высылка его затягивалась потому, что сразу оказалось несколько мест, несколько направлений.
Да полно, только ли о высылке шла речь?
Нет, Фотий знал только одно место для Пушкина, гибельного по заманчивости стихов: Соловецкий монастырь. Там гибельные девки ему бы не снились, там нашли бы узду. Просидев десять лет, стал бы он бить поклоны. А на большее не способен. Пляски словесные навек бы забыл.
Аракчеев полагал крикуна поместить в Петропавловскую крепость или отдать в солдаты навечно.
Князь Голицын полагал послать любителя вольности в Испанию, как место для него подходящее. И хоть с Пушкиным было просто покончить, но единства во взглядах все же не было. И что еще важнее – единства в бумагах о Пушкине. Да и самой бумаги еще не было. Как быть? Чему быть?
Чаадаев скачет.
И хоть ему нужно быть как можно скорее в столице, хоть его конь скорее всех и всего на дороге, – идет он бешеным шагом ровно.
Чаадаев скачет.
И если все же конь придет не скоро, если придется мчаться помедленнее, чтоб не задержала случайность, все же сегодня до вечера все будет сделано. Он застанет дома Карамзина и будет с ним говорить. Ждать нельзя. Ни одного случайного или ненужного жеста. Ровно дышит конь, мчится ровно. Сегодня же помчится он обратно. Воинские часы непрерывны. Он скажет Карамзину об опасности, которая грозит Пушкину. Поэт ненавистен любителям рабства. Самовластие в слепоте. Защитники рабства уже ополчились. Поэт им ненавистен. Час наступает. Без поэта нет будущего. Внимание!