Она села на дешевые места и., когда я выключил свет, сняла с головы шляпку, маленькую шляпку с пером, которую я подарил ей в день ее тридцатилетия. Это было четыре года назад. Я стоял у окошечка, отделенный от пе «кирпичной стеной, стеклом и двадцатью метрами зала, h глядел на нее. По ее волосам, но ее каштановым волосам скользил мерцающий свет «Золотого города». По и нацистский кинообъектив не в силах был оккупировать свет и небо над нашим городом, свет и небо остались при нас. И я видел ее — ее волосы, плечи, родинку, озорную усмешку, морщинки на переносице, когда она, смеясь, морщила нос, ее глаза до краев полные невинно-лукавого простодушия, глаза, которые умели находить великую радость в каждом пестром камешке, ее ноги, которые так любили босиком шлепать по луговым тропинкам. Никогда еще мои глаза не воспринимали ее так отчетливо, как в этот час. Никогда еще она так крепко не прижималась ко мне, никогда еще мои руки не ласкали ее так нежно, кап и тот час. Милый старый Ярош — называла она меня. Если бы холодная стена, подавшись под моим лбом и моими руками, обратилась вдруг в ее живое тело, это меня ничуть не удивило бы в тот час. Но потом я счел бы все это игрой расходившихся нервов, не будь кончики моих пальцев до крови ссажены о стену, не будь обломаны мои ногти. Я думал только об одном: не показывайся ей, ты не смеешь засыпаться, может, ее заставили пуститься по твоему следу… Почему я не зашел к ней в ту ночь? Стоило мне только вздохнуть перед нашей дверью, и она услыхала бы меня… У сорвиголовы нет завтрашнего дня, сказал мне Карел в гот вечер.
Через несколько недель прикончили Гейдриха. В витрине на площади Венцеля было выставлено его разодранное пальто, пальто гаулейтера. Рассказывают, что, проходя мимо, Кора плюнула на витрину. Впрочем, этому я как раз не верю. Зато мне точно известно, что тогда начался массовый угон еврейского населения и жертвами его оказались фрау Гольдбаум и Мирьям. В тот день, когда забрали обеих женщин, моя плутовка должна была петь перед гуннами немецкие народные песни. Я узнал об этом от пианиста, который по вечерам аккомпанировал ей. Я выпытал у него все до мельчайших подробностей. Ибо с этого вечера наша разлука стала неотвратимой, как смерть. Кора вышла на эстраду в черном платье с желтой розой в руках. Свое выступление она должна была начать с песенки «Лили Марлен». И она запела, прижав розу к груди и не дожидаясь аккомпанемента. Она запела, моя дорогая плутовка:
Не знаю, что это такое, печалью душа смущена…
Жирный майор выхватил пистолет. Ах, если бы этот болван не был жалким комедиантом, если бы он не выстрелил мимо, вереща, как старая баба, страдания ее кончились бы на полгода раньше и не у красной кирпичной стены в Терезиенштадте.
Я выпытал у пианиста все, что мог. Он не хотел отвечать, он сгорал со стыда, ибо не успел сыграть те несколько тактов, которые могли ему стоить жизни. Его униженные мольбы о пощаде вызывали у меня омерзение.
В мае я побывал в Терезиенштадте, я повторил путь, по которому в последний раз прошла моя Кора и ее товарищи. Этот путь ведет через глубокий туннель каземата. Там из камер тянет гнилью, словно от проросшего картофеля. Как жадно она, должно быть, вдыхала этот запах. Когда у нас в Карлсбаде, в подполе, весной начинал прорастать картофель, она спускалась вниз и перебирала его. Маленьким ребенком она ходила с матерью работать к крестьянам… Как выйдешь из туннеля, по правую руку будет дверь, стальная дверь в стене, окружающей место расстрела. Там она и увидела страшное, фашистское это в неприкрытой наготе — пулеметы под деревянным навесом, чтобы палачи не промокли, если пойдет дождь… Да, это пришла смерть в обличье живодера из фашистской Германии.
Я не вернулся назад дорогой смерти. Вместе с моей плутовкой я пошел вперед по луговой тропинке, которая начинается сразу за выходом из туннеля и поднимается на холм; она любила ходить босиком по луговым тропинкам, и щебетала, и заливалась, как жаворонок. Разве все мы не любили бродить в мае по луговым тропинкам — Кора, ты, Тео и я? И разве ты не щебетала и не заливалась вместе с Корой? А помнишь, как Тео, мой дорогой наставник, не мог сдержать себя, останавливался посреди дороги и, от восторга подбрасывая шляпу, восклицал:
Трепещет каждый
На ветке лист,
Не молкнет в рощах
Веселый свист.
Как эту радость
В груди вместить!
Смотреть! И слушать!
Дышать! И жить![И. В. Гёте. Майская песня. Перевод В. Глобы.]
Ах, Лея, если бы ты вновь сыскала путь к прекрасному и четкому немецкому «это», образец которого являет нам природа! Когда ты вместе со всей немецкой молодежью добьешься этого, небо, и земля, и все предметы вновь покажутся вам надежными…»
В конце письма Хладек просил Лею передать привет «гадкому Генриху» и незнакомой ему девушке, «младшей Лизе», которая все потеряла в войну и которую привез в свой дом «гадкий Генрих». Кроме того, Хладек писал, что не станет возражать, если Лея при случае исполнит для Руди и его девушки этюд на заданную им тему.
Когда Ярослав Хладек отложил перо, было уже далеко за полночь — занималось утро первого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года.
Здесь было бы уместно для начала прервать наше многоплановое повествование. Ибо то, что следовало сообщить о главных героях для начала, уже сообщено. Двое из них, Хильда и Руди, — хотя об этом нигде прямо не сказано, но это нетрудно предугадать, — достигли того перевала, за которым начнется для них что-то новое и устойчивое. Однако поведать о новом нельзя, не поведав о сотне новых отношений с новыми людьми, о сотне новых обстоятельств и новых связей. В эго утро, когда Хильда, как обычно, зайдет проведать Руди, он первым делом спросит у нее, не может ли она одолжить ему немного денег, потому что у него не осталось ни пфеннига, а он заполнил анкету и хочет ее отправить: «Ты ведь знаешь куда, Хильда?..» Хильда даст ему денег и услышит, как смеется Инесс, и сама отправит письмо на имя Эльзы Поль; а от себя, раззадоренная шуточками Ганса Бретшнейдера, припишет в конце несколько слов. И больше она не станет требовать от Руди окончательного «да» или «нет»! Она сядет на стул у постели и скажет, что, если это будет мальчик, пусть его зовут Рейнхард. Но оба почувствуют, что это по последнее начало в их жизни, что им предстоит начинать снова к снова. А пока Хильда уходит из старого тихого дома и от больничной койки в счастливом ожидании. А это сейчас для псе всего важней.
Для начала она поселится в Рорене у Лизбет и матушки Фольмер, потому что оттуда вдвое ближе до больницы, чем от Рейффенберга. Ведь она намерена бывать у Руди два рапа в неделю. Возле постели Руди она застанет в один прекрасный день все рейффенбергское семейство: мать Руди, отца, младшего брата и сестру, с которыми она еще не знакома, так как Дора Хагедорн, когда настали «тяжелые времена», отдала их в работники по крестьянам. К своему великому удивлению, встретит она в больнице и Эльзу Поль и, дав ей твердое согласие, получит от нее столь же твердое обещание.
А спустя две недели она увидит в руках у Руди письмо Хладека и прочтет его и так же, как и он, вычитает кое-что для себя между последними строчками. Этому письму суждено окончательно извлечь ту занозу, которая еще торчит у нее в сердце. Инесс уже выговаривала ей за то, что она все оттягивает встречу с Леей. И она прочтет собственноручно написанное Леей послание, где та сообщает, что Армии Залигер вернулся в Рейффенберг, что он «ведет себя, как человек, понаторевший в скромности и приличных манерах», прочтет, что сама Лея со своим отцом ван Буденом, «вероятно, на каких-нибудь несколько месяцев» уезжает в английскую зону и что она глубоко раскаивается в своем требовании, «чтобы вы, дорогой мой Гиперион-Варварнон, помирились с Армином Залигером». Теперь он может поступать, как знает. Но Хильда (в отличие от Руди) воспримет это известие весьма хладнокровно. Она решит, что ей этого Залигера опасаться нечего. Его возвращение в советскую зону — так решит она, так решат остальные — говорит лишь в его пользу. Видно, в деле с Гербертом Фольмером совесть у него чиста.
А в конце сентября Руди заедет за ней в Рорен. В доме матушки Фольмер он прочтет, что написал Хладек о «своей милой плутовке». Это письмо прибавит сил матушке Фольмер. Прибавит сил даже Лизбет, которая за это время получила землю из переселенческого фонда и нашла работящего мужа, нигде и никогда не выпускающего изо рта носогрейку. И Руди испытает при чтении какие-то неожиданные, непривычные чувства. Герман Хенне и его жена тоже придут послушать. Хенне больше не думает, что Руди был заодно с капитаном Залигером. Но Залигера, по его словам, он подозревает, как и прежде, и советует, чтобы Руди — в интересах справедливости — держал ухо востро.
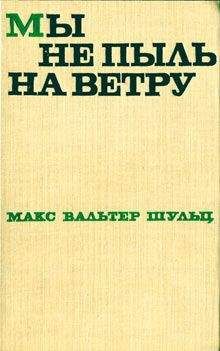
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)


