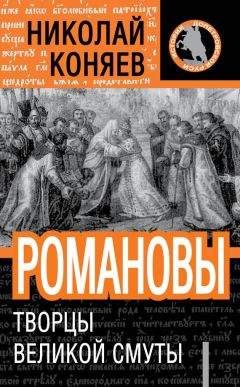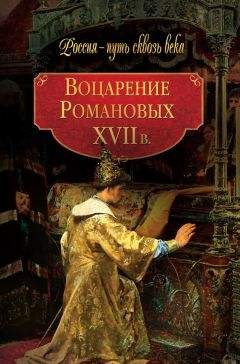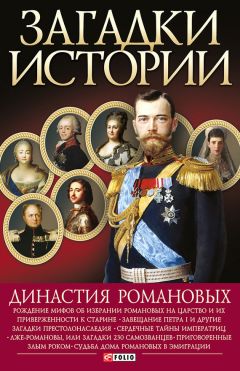— Ох! Уж этот мне жених! — схватился царь за голову руками.
— Говорила тогда, не начинать бы…— невольно вырвалось у царицы.
Побагровели бледные щеки царя, крикнул он хриплым голосом:
— Ты опять о том же! Ведь говорил я, говорил тебе!…
— Прости, батюшка! Прости, государь! — зашептала царица. «Ох, я глупая! — думала она с мученьем и тревогой. — Голова идет кругом, никак не могу удержать своего сердца. Убей он меня, в толк не возьму, зачем это так нужно? Зачем всю эту кашу заварили! Поискать, и свой бы хороший человек нашелся. Эка невидаль — заморский, басурманский королевич!»
Между тем царь, победив в себе волнение, которое было слишком для него мучительно, говорил:
— Что же меня и мучает пуще всего, как не это дело!… Начато оно, кончить его надо, беспременно надо, а как тут кончить?
Царица опять не сдержала сердца.
— Зачем было немцу Марселису наказывать, чтобы он уверял Христиануса, что королевичу помешки в вере не будет?
— Это уж мы так тогда с боярами решили! — в раздумье произнес царь. — Оно и точно, кабы не уверял Христиануса Марселис, так Вольдемара бы на Москву не отпустили.
— А что же теперь, лучше, что ли? Вот он здесь, и никакого толку, только срам один, только языки все чешут, мы с тобой убиваемся, а на Иринушке лица нет!
— Кто такое мог помыслить, чтобы он оказал столь лютое упрямство? Ведь я то ж… я не дурного чего прошу от него и требую, а к Богу привести хочу…
— Нешто он может понять это? — перебила царица. — На то он и басурман. Вот помяни ты мое слово, хоть десять лет ты его держи тут, он от своего еретичества не отстанет.
— Это и он сам пишет мне.
— Ну вот видишь!
— Да что видеть-то! — в приливе нового отчаяния воскликнул царь. — Вижу одно: необходимо Ирине быть за ним, и нельзя оставить этого дела!
— Что же тут!… Ты никак держишь в мыслях, что можно ее обвенчать с нехристем? — испуганно спросила царица. — Так ведь ежели бы мы такое сделали, не токмо бояре и боярыни, но и весь народ русский перестал бы почитать нас!
— Это я и без тебя знаю, жена! — мрачно сказал царь. — И никогда у меня в мыслях не было венчать ее с еретиком! Нет, — ухватился он за единственную надежду, которая его еще поддерживала, — угомонится королевич! Попервоначалу-то он рвал и метал, бежать собирался, а теперь затих. Выдерживать надо, время все исправит — сдастся он.
Царица отрицательно покачала головою.
— Не жди ты этого!
Царь с сердцем отвернулся от нее, и голова его опять упала на подушки.
— А ты лучше смотри за нею! — тяжело дыша, заговорил он. — Да накажи Марье Ивановне, чтобы она глаз не спускала… Так-то!… Ты вот от меня что-то нынче все скрывать начинаешь, а довелось мне услышать, у тебя в тереме неладное творится: воры объявляются; всякие зелья у девчонок находят… какая такая девчонка с зельем поймана?
— Э, государь, пустое! Не тревожься ты, Христа ради. Кабы что было важное, стала ли бы я скрывать от тебя?
— То-то пустое! Нет, видно, не пустое, коли я говорю. Прикрыли, затушили дело, а о деле том вся Москва кричит, — какая такая девчонка с зельем попалась, спрашиваю, а ты отвечай мне прямо!
— Да есть тут одна… к Иринушке приставлена!…— с великой неохотой и новой тревогой прошептала царица.
— То-то и есть, к Иринушке приставлена!… Быть может, от этой девчонки и беда вся.
— Нет! — воскликнула царица. — Кабы она в чем была виновата, не стала бы я покрывать ее. Иринушка больно ее любит, так в нее и вцепилась, сама плакала, на коленях меня упрашивала. Не троньте, говорит, Машутку, люблю я ее, она ничего дурного не сделала и сделать не может.
— Машутка…— прошептал царь, припоминая. — Ах да, бойкая такая, быстроглазая! — вспомнил он. — Чего ж это Иринушка так к ней привязалась? Неладно тут что-то. Не она ли и ослушивается нашей с тобой воли? Не она ли и про королевича Иринушке шепнула да и вести ей всякие передает о нем?
Царица заволновалась.
И как это ей самой до сих пор не пришло в голову. Ведь и то правда!
— Смотри в оба! -между тем говорил царь. — Чтобы хо рошенько следили за этой Машуткой, и как только что — не покрывать ее! Да и что за приятельство между нею и нашей дочкой?… Ох, тяжко мне! — вдруг простонал он, хватаясь за грудь, и замолчал.
Царица тоже ничего не говорила.
Так прошло несколько минут. Царь задремал.
В это время в укромном уголке царицына терема, в опочивальне царевны Ирины, происходила тоже беседа, горячая и быстрая, под страхом, что кто-нибудь придет.
Царевна говорила Маше:
— Ну что ты мне душу надрываешь, Машуня, чего ты меня успокаиваешь? Что ты твердишь мне, зачем я худею да скучаю? С чего же мне радоваться? Вся жизнь опостылела. Да и на себя посмотри, та ли тоже и ты, что была прежде?
Действительно, за этот год большая перемена произошла в обеих девушках. Обе они созрели, обе похорошели, но при этом вид их был печален, не тот, что прежде. Даже Маша уже не казалась бесенком. В ее больших темно-серых глазах явилось совсем новое выражение. Она теперь слушала царевну и вздыхала.
— Подумай только, ведь целый год прошел с того далекого вечера, — продолжала Ирина, — целый год я его не видала! И не было за это время не только дня, но и часу, чтобы не думала я о нем, не вспоминала. На миг один он был со мною, но кажется мне, будто весь век его знала и любила!…
Маша вздохнула при этом еще глубже.
«А я…— мелькнуло в ее мыслях, — ведь и со мной то же. Кабы она знала… только никто о том и никогда не узнает!…»
— А он… что с ним? — жаловалась царевна. — Ведь вот уж сколько времени мы ничего, как есть ничего про него не знаем. На Москве ли он еще или уже уехал?
— Ну, это-то мы знаем, — перебила Маша. — Говорят, вот и хочет уехать, да держат его, не пускают, в плену он… и все из-за своего упрямства…
— Да вот видишь! А ты тогда что говорила?
— Что же я говорила, царевна?
— Забыла, видно!… Я-то не забыла. Ты ведь уверяла меня, что стоит ему повидаться со мною — и он откажется от своей еретической веры и крестится в веру православную.
— Да, это точно я говорила, — вспомнила Маша, — так и теперь повторяю то же. Сама поразмысли: кабы ты его попросила хорошенько, он бы и не смог отказать тебе, а ведь виделись вы тогда всего на одну малую минутку, ни слова не сказали друг другу.
Царевна покачала головой и горько усмехнулась.
— Нет, Машуня, видно, я ему пришлась не по нраву. Кабы так полюбил он меня, как я его полюбила, не выждал бы он этого долгого, тяжкого года; кабы любил он меня — не стал бы упрямиться. Он и думать обо мне позабыл, одно только и в помышлении у него, как бы выбраться отсюда скорей в свою басурманскую землю. Видно, там девицы лучше меня, больше ему по вкусу!…
— Ах, нет, нет, не говори так, царевна! Что такое мы знаем? Может, он истомился пуще нашего… пуще твоего, — поправилась Маша.
— Да пойми ты, пойми, Машуня, не могу я так больше жить — тошно мне, душно! Уж хоть бы один конец, а то что ж это такое?
Царевна замолчала и, не в силах будучи совладать с собою, залилась горькими слезами.
Маша глядела на нее каким-то особенным пристальным, странным взглядом, и все больше и больше сдвигались ее тонкие брови. Она, видимо, решилась на что-то. Вдруг она тряхнула своей русой головкой, в глазах ее загорелся прежний огонек.
— Ныне же я попытаюсь его увидеть, — прошептала она, бледнея и чувствуя, как от одной мысли об этом свидании застучало, забилось ее сердце, но не от страха, не от робости…
Остановились царевнины слезы, поднялась она с места, ухватила Машу руками. На лице изобразился ужас, но и в самом этом ужасе как бы светилась надежда.
— Что ты? Что ты? Опомнись! — шептала она. — После того, что было?… О двух ты головах, что ли?
Усмехнулась только Маша и тряхнула своей густой косой.
— Голова-то у меня одна, да и той не больно-то жалко. Коли пропадет — туда и дорога. Да нет, зачем пропадать.
— Ведь следят за тобою, Машуня, по пятам следят, сама знаешь, да и я знаю, ведь уж как помог только Бог тебя от напраслины отстоять, от пытки избавить, а тут ты сама так прямо в руки своим злым ворогам и лезешь. Нет, нельзя этого — нечего и думать!
Но по лицу Маши царевна видела, что она вовсе не желает отступиться от своего безумного плана. Вздохнула царевна.
Боже милостивый! Чего бы ни дала она, чтобы иметь возможность согласиться на предложение подруги! Но согласиться нельзя. Тоскует и сохнет она по королевичу, только ведь от этого ей не меньше жаль Машу, не меньше от этого она ее любит и за нее страшится.
Поборола она в себе искушение и твердым, строгим голосом проговорила:
— Машуня, чтобы об этом не было между нами речи больше, я тебе запрещаю, слышишь!
— Слышу, царевна, — проговорила Маша, — твоя воля!
Вошли боярышни и оттеснили Машу от царевны. Ушла Маша к себе в свою светелку, присела у окошечка, распахнула его. День чудесный, жаркий и солнечный, точь-в-точь такой же, какой был тогда, год тому назад. Под окошечком густая зелень; за деревьями виднеется забор знакомый, а там за ним, за этим забором, тоже знакомая, памятная дорога.