— Можно ли считать тебя порядочным человеком, когда ты, ничего не унаследовав от отца, нажил себе такое состояние?
Триумф закончился незадолго до потемок[184].
Минуций и Лабиен, выбравшись из толпы на Священной улице, пошли к Авентину через Велабр. Минуций решил проводить приятеля до Публициева взвоза, где Лабиен жил в доме своих родителей. По пути они вели оживленный разговор, обмениваясь впечатлениями о триумфе и вспоминая о совместной службе во Фракии.
Глава четвертая
ОПАСНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Друзья проследовали по узким и кривым велабрским улицам, застроенным по большей части многоэтажными домами, в которых снимали комнаты торговцы продовольственными и гастрономическими товарами.
Уже надвинулись сумерки, но многие лавки и таберны[185] были открыты. Возле них толпились покупатели.
Квартал Велабр с его громоздкими и скученными постройками был типичным для большинства районов Рима. В то время римляне не знали никаких ограничений относительно высоты своих домов и особых правил планировки улиц. Как заметил позднее по поводу многоэтажных строений Вечного города Плиний Секунд, «если к протяжению и объему Рима прибавить высоту его домов, то ни один город в мире не может сравниться с ним по величине».
— А помнишь, — говорил Лабиен, когда они миновали Бычий рынок и начали спускаться по лестнице, ведущей к Большому цирку, — помнишь, в какую переделку мы попали, когда стояли лагерем под Абдерой[186] и, отправившись за провиантом, наткнулись на засаду, устроенную нам фракийцами?
— Клянусь щитом Беллоны, разве такое забудешь? — отвечал Минуций, живо вспомнив о памятном случае под Абдерой, где он получил весьма серьезное ранение, из-за которого почти на месяц выбыл из строя. — Да, тогда нам крепко досталось…
— О, ты тогда был великолепен, — подхватил Лабиен. — Как теперь вижу тебя на твоем гнедом под градом стрел, когда ты выстраивал своих фуражиров в боевой порядок. Ты ведь прирожденный воин, Минуций! Досадно, что ты так упорствуешь, отказываясь заняться делом, в котором мог бы с блеском проявить себя…
— Пока все мои помыслы связаны с февральскими календами, — сказал со вздохом Минуций. — Это последний срок, назначенный мне моими римскими кредиторами. А ведь я еще ожидаю со дня на день прибытия капуанских аргентариев, разрази их все громы и молнии Юпитера…
— Вот-вот! Тебе сейчас важно выиграть время… Если ты решишься последовать моему совету, мы в два счета проведем всех твоих кредиторов…
— И каким же образом? — недоверчиво улыбнулся Минуций.
— Проще простого сделать это. Нынче в армии большая нужда в таких опытных командирах, как ты. Сертория мы попросим, чтобы он порекомендовал тебя Клавдию Марцеллу… Ты слышал? Уже идет набор союзнической конницы. Бывшему префекту турмы легионных всадников легко доверят командование каким-нибудь вспомогательным отрядом. Скоро на помощь проконсулу Манлию Максиму двинется один из африканских легионов Мария. Вот и отправишься вместе с ним в лагерь Манлия. В твое отсутствие никто не посмеет предпринять что-либо против тебя и твоего имущества…
По лицу Минуция продолжала блуждать грустная улыбка сомнения.
— А мои долги? — спросил он. — Что прикажешь с ними делать потом, когда я с благословенной помощью богов вернусь из альпийского похода? Или их вместе с процентами станет меньше, пока я буду сражаться с кимврами?..
— Ты что же, клянусь Марсом Градивом, хочешь получить ручательство самой Фортуны? — возразил Лабиен. — Положись-ка лучше на Надежду, одну из самых очаровательных спутниц этой своенравной богини! Дорогой Минуций, война несет с собой не только риск и опасности, но также добычу и славу, которые тоже чего-нибудь стоят. Разве мы с тобой ни с чем вернулись из Фракии? А после победы над тектосагами я прислал отцу больше денег, чем он выручил от дохода со своего имения. Если будет угодно богам, разобьем и кимвров. Говорят, у них повозки ломятся от серебра и золота…
Приятели остановились перед входом в цирк около бронзовой статуи Тита Фламинина[187] и Большого Аполлона, величественного мраморного изваяния бога, которое римляне вывезли из Карфагена. Здесь они стали прощаться.
— Все-таки хорошенько поразмысли над моим предложением, — напоследок сказал Лабиен.
— Ладно, еще встретимся, потолкуем…
— Ну будь здоров, Минуций.
— Будь здоров, Лабиен.
Минуций возвращался той же дорогой, шагая быстро, чтобы поспеть домой до наступления темноты.
— Поздно, Лабиен… к сожалению, слишком поздно, — бормотал он себе под нос, еще находясь под впечатлением беседы с другом и думая о том, что сейчас происходит в его имении близ Свессулы[188]. Со дня на день он ждал оттуда вестника.
Лабиен многого не знал, вернее, не знал почти ничего, Минуций особенно не посвящал его в свои запутанные денежные дела. Тот, наверное, пришел бы в ужас, узнав, что общая задолженность его перевалила за миллион сестерциев, а вся его недвижимость в Кампании заложена и перезаложена. Но главное, чего не мог знать Лабиен, заключалось в том, что в свессульском имении Минуция разрастался заговор его рабов, им же самим инспирированный.
Со скрежетом зубовным принял он это решение, от которого веяло безумием. Сама мысль, что ему придется стать во главе взбунтовавшихся рабов, внушала ему почти что непобедимое отвращение. Но что оставалось делать? Положение его было безвыходным. В декабрьские календы он должен был расплатиться с капуанскими кредиторами. Он с трудом уговорил их дать ему последнюю отсрочку до января. Они вряд ли замедлят появиться в Риме с исковыми заявлениями. По заемным письмам римских ростовщиков ему предстояло платить в календы февраля. Эти и слышать не хотели об отсрочках.
— Пройдет еще немного времени и мое имя будет значиться в проскрипции[189], — с сумрачным видом говорилМинуций около месяца назад в Капуе трем верным своим рабам-телохранителям, обедая вместе ними в своей гостинице. — Клянусь, у меня зуд по всей коже, лишь только представлю, что я, Тит Минуций, еще не так давно похвалявшийся своим богатством, роскошными пирами, вхожий во многие дома именитых людей, стану влачить жизнь в позорной нужде, в какой-нибудь грязной лачуге на Эсквилине, среди оборванцев, которые одним и кичатся, что они римские граждане. И все будут с презрением тыкать в меня пальцами: «Вот он! Полюбуйтесь на него! Вчера купался в роскоши, имел большой красивый дом в центре Рима и чудесные загородные виллы, сотни рабов были к его услугам, а ныне он превратился в жалкое отребье, подонка, промотавшего отцовское наследство и погубившего цветущую ветвь славного римского рода».
Его преданные слуги очень хорошо понимали состояние господина.
Они горячо убеждали его, что не только городские, но и сельские рабы молят богов о его благополучии — ведь многие из них благодаря его милостям имеют пекулий[190], обзавелись женами и детьми[191].
— Подумать больно, в какое они придут отчаяние, если — да не допустят этого боги — имение твое опишут, а их самих от лысого до лысого начнут продавать с аукциона? — сокрушался фессалиец Ламид, которого Минуций из всех троих считал самым рассудительным.
— А мы? Что станется с нами, твоими домашними слугами? — вздыхал мужественный Ириней. — Такого превосходного господина, как ты, у нас уже никогда больше не будет.
— Ты для нас — настоящий дар богов, — вторил товарищу угрюмый Марципор.
— Еще бы, клянусь Олимпийцем! — вскричал Ламид. — Вот иной пролетарий гордится своей свободой и квиритскими правами, только это одна лишь видимость без плоти и содержания. Хороша свобода — весь век, подобно нищему, ходить за своим патроном с протянутой рукой, выпрашивая у него подачки! А наш господин — пусть боги его охраняют — и разодел нас, как щеголей, и ни в чем другом не отказывает. Потому-то и мы все лезем вон из кожи, лишь бы ему угодить…
— Да что там толковать, — перебил фессалийца Ириней. — Недаром же люди говорят: «Лучше терпеть милостивого господина и быть сытым, чем прозябать в бедности и терпеть нужду под именем свободного».
Все трое два года назад были гладиаторами. Минуций купил их у заезжего ланисты в Капуе. Он нуждался в надежной охране во время своих путешествий и решил обзавестись сильными и храбрыми слугами, хорошо владевшими оружием.
Самый старший из них, сорокалетний Ламид, родом из Краннона в Фессалии[192], одно время служил наемником у сирийского царя Деметрия Никатора[193], ранен был в памятном сражении при Дамаске, взят в плен и включен в армию нового царя Сирии. Но фессалийцу надоела военная служба, не принесшая ему кроме опасностей ни денег, ни славы. Он попытался бежать, но был схвачен и продан в рабство. В Италию его привезли прямо с Делоса[194]. Несколько лет он работал в металлолитейных мастерских. За склонность к побегу ему надели на шею наглухо заклепанный ошейник с традиционной надписью: «Держи меня, чтобы я не убежал». Все же ему однажды удалось надолго укрыться в Помптинских болотах[195], где он избавился от ненавистного ошейника и сделался предводителем разбойничьей шайки, составленной из беглых рабов.
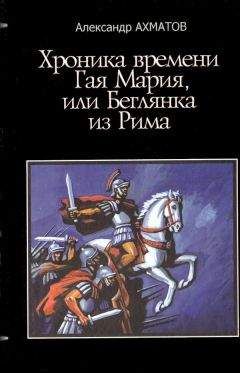



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
