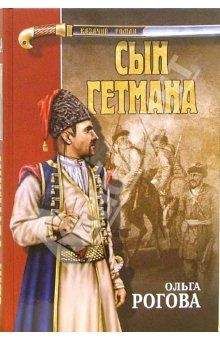Пан подстароста весь день был в отличном расположении духа, а когда пришел под вечер Комаровский и заявил, что у него более пятисот человек, которых можно поднять тотчас же, он совсем повеселел, велел подать бутылку старого венгерского и на радостях распил ее с зятем. Одно только его беспокоило: зять сознался, что разболтал о наезде.
– Экий ты, брат, пустомеля! – укорял его Чаплинский, – теперь эта птица наверно уйдет от нас. Впрочем, это ничего, – прибавил он, – если он уйдет, то без хозяина легче будет овладеть хутором. Смотри, разузнай завтра поточнее, где Богдан.
Комаровский ушел, а Чаплинский нетерпеливо ходил по комнате, ожидая, чтобы стемнело. Наконец зажгли огни, и густая тьма южной ночи как-то сразу спустилась на усадьбу. Чаплинский велел приготовить лучшего коня из татарского табуна, захваченного в одном из набегов, и другого похуже. Потом он велел привести Катрю. Девушка несколько суток просидела взаперти, ничего не зная об ожидавшей ее участи. Она как-то осунулась, глаза беспокойно перебегали с одного предмета на другой, волосы беспорядочными прядями падали на плечи. Но все-таки во всех ее движениях сквозила решимость и виднелось гордое непреклонное упорство. Чаплинский холодно, почти презрительно посмотрел на нее и сказал:
– В последний раз я с тобою говорю, хочешь ли ты или нет меня слушаться? Отступись от своего казака. Замани его сюда, а здесь я с ним сам расправлюсь.
Девушка только сверкнула на него очами и в этом взоре он увидел всю ненависть ее к нему. Он невольно смутился и опустил глаза, но потом тотчас же оправился и резко проговорил:
– Хочешь или нет?
– Что ты пытаешь меня? – с горечью проговорила девушка. – Убей, казни, я смерти не боюсь, а любимого человека в руки твои не предам.
– Казнить тебя? – насмешливо повторил Чаплинский. – Ну, нет, это слишком много было бы для тебя чести. А ты знай, что, если не послушаешь меня, то я тебя отдам в татарскую неволю, и не после, не когда-нибудь, а теперь, сию минуту! – грозно прокричал он и, хлопнув в ладоши, приказал вошедшему слуге:
– Позвать сюда татарина!
Катря вздрогнула и широко открыла глаза.
– Пан Чаплинский шутит? – проговорила она, стараясь преодолеть смущение. – Он не может меня, вольную шляхтянку, отдать в рабство. На это есть законы, права.
– Законы, права? – со смехом повторил подстароста. – Я не так глуп, чтобы дать тебе возможность пользоваться этими правами. Сегодня же ты вместе со своей мамкою очутишься в руках татарина, которого я отпускаю на волю. А там в степи ищи прав и законов в татарском ауле.
В эту минуту вошел Ахмет.
– Смотри, Ахмет, вот твоя будущая пленница. Хороша ли?
– Хорош, урус, ой, хорош! Большой деньга дадут, – проговорил татарин. При виде татарина, его зверского, дерзкого лица, Катря не выдержала, силы ее оставили, и она, как сноп, упала на пол.
– Теперь, Ахмет, – по-татарски сказал Чаплинский, – забирай обеих пленниц, другую, старуху, тебе выведут, приторочь их покрепче, коней я тебе даю, и удирай подальше, чтобы о тебе не слуху, ни духу не было. Татарин схватил полумертвую Катрю и вышел на крыльцо, где уже стояло двое коней и два хлопа держали вырывавшуюся из их рук Олешку. Ахмет, не торопясь, с полным знанием дела, вытащил из-за пояса длинную веревку, разрезал ее надвое, связал сначала бесчувственную Катрю и перебросил ее к себе на седло. Затем принялся за старуху, которая всячески бранила его по-татарски и вопила на целый дом. Ахмет вынул из-за пазухи пестрый платок, хладнокровно свернул его, заткнул старухе рот, связал ей руки и приторочил ее к седлу другой лошади. Потом быстрым привычным вскочил в седло, поправился, взял повода обоих коней, выехал за ворота, гикнул и помчался по дороге в лес.
Глянь обернися, стань задивися который маешь много
Же ровний будешь тому в которого не маешь ничого
Бо той справует, шчо всiм керует; сам Бог милостиве
Всi наши справи на своей шалi важить справедливе.
На другой день в большой столовой Суботовского хутора сидели Марина, а напротив нее, за кружкою меда, ксендз Хотинский. Он был иезуит в полном смысле слова: худощавый, с желтым морщинистым лицом, с беспокойно бегавшими хитрыми глазками, с двумя резко обозначившимися складками у рта, придававшими ему хищный вид, с кошачьими манерами и вкрадчивым голосом. Он считался давнишним другом Чаплинского и помогал ему во многих его делах. Новое поручение его патрона казалось ему труднее всякого другого. Это была уже не первая попытка и Хотинский знал, что имеет дело с ловкой изворотливой шляхтянкой, католичкою только по названию, постоянно жившей между православными и свыкшеюся с вольным казацким духом.
– Пани Марина, – вкрадчиво возобновил он прерванный разговор, –должна выслушать меня хоть раз без шуток, дело серьезное, шуткам нет места.
– Слушаю пана ксендза, – полупрезрительно, полунасмешливо отвечала Марина.
– Знает ли пани, что затевает казак, ее будущий муж? Он затевает хлопское восстание, он мутит и регистровых казаков, и запорожцев, а за такие проделки ему не сносить головы на плечах. Неужели пани хочет быть женою преступника? Ведь его ждет казнь на плахе…
– Пан ксендз забывает, ответила Марина решительно, – что пан Зиновий еще не преступник. Преступники те, кто хотят лишить его прав и состояния. Но, ведь, есть же и законы… Он поехал к пану старосте и будет просить его заступничества.
– Он опоздал, – не без ехидства заметил ксендз, – пан староста для него ничего не сделает.
Марина пытливо посмотрела на Хотинского.
– Почему пан ксендз это думает? – спросила она.
– Не думаю, а знаю из верного источника, что пан Конецпольский и спит, и видит как бы отделаться от беспокойной головы. Пани должна поверить моему слову. Хмельницкому больше не видеть Суботова. А пани Марине не лучше ли остаться здесь полною хозяйкою, сделаться настоящей пани, чем держать сторону бунтовщиков? Рано или поздно их постигнет кара Божья! – проговорил он, возвышая голос. – Опомнись, пока есть время, и не губи души своей, дочь моя!
Марина молча слушала; по лицу ее пробегали какие-то неуловимые тени. В душе она никогда не была казачкой; но она искренно любила Богдана, верила в его ум и энергию. Она питала надежду, что когда-нибудь он возвысится, и они заживут настоящими панами. За последнее время вера ее в Богдана сильно пошатнулась. Она не одобряла дружбы его с хлопами и не предвидела ничего хорошего. Сколько было вождей казацких до него, и все они кончали жизнь на колу или под топором палача, паны же живут себе да живут и давят хлопов по-прежнему. "Лучше повелевать хлопами, заключала она и жить по-пански, чем ждать, чтобы вместе с хлопами вздернули на виселицу". Все эти соображения быстро промелькнули у нее в голове, и она внимательнее обыкновенного прислушивалась к словам ксендза.
– Пан ксендз, – спросила она наконец, – наверное знает, что пан Чаплинский хочет завладеет Суботовым и что пан староста за это с него не взыщет?
– Наверное, – подтвердил ксендз.
– Пан Зиновий обратиться тогда в суд.
– На суде он и подавно ничего не выиграет, так как у него нет письменных доказательств на владение.
– Но, ведь это ужасно! – с истинным отчаянием в голосе сказала Марина, – куда же мы денемся?
– Куда он денется? Это уж его дело, – ответил ксендз, – может идти к своим запорожцам. Что же касается до пани Марины, то ей никуда и деваться не нужно: она знает, что пан подстароста готов положить все к ногам ее. Марина встала и в сильном волнении подошла к окну. Вдруг вдали по направлению к богатым пажитям, у гумен, там, где стояла мельница, вспыхнул один огненный язык, за ним другой, третий… К небу взвились снопы яркого света и, точно ракеты, рассыпались по темному своду.
– Иезус, Мария! Что это? – воскликнула Марина, – никак пожар на гумне?
Она хотела выбежать во двор. Но в тот же момент отовсюду поднялись крики, целые толпы людей бежали от села к усадьбе, а вдали слышались конский топот и ржанье, точно неслись всадники.
Ивашко Довгун быстро вошел в комнату бледный, расстроенный.
– Пани Марина, – поспешно проговорил он, – сюда несется отряд человек в тысячу, если не более; мельница зажжена, на гумне горит хлеб; крестьяне бегут из хат в усадьбу.
– Берите оружие, раздавайте людям, попробуем защищаться, –хладнокровно сказала Марина и, обратившись к Хотинскому, прибавила:
Пану ксендзу лучше бы убраться отсюда, пока есть время.
– Я предпочитаю остаться здесь, пани Марина, – упорно ответил Хотинский.
Марина промолчала и вышла с Довгуном на двор. Там уже толпилось множество крестьян с женщинами и детьми. Бабы голосили, дети кричали, мужчины торопливо разбирали оружие, выносимое хлопами. Наскоро устроили вал у ворот и калитки, снеся сюда всякий скарб. За этим валом поместились те, у кого было оружие.