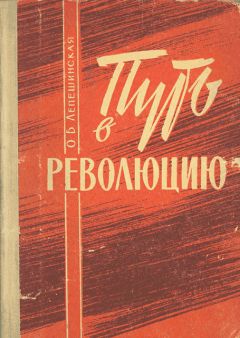— Во мне клокочет торжествующее чувство жизни! Вы, Ольга Борисовна, — мои глаза, мои уши и руки… Благодаря вам я забываю о тюрьме… — Сделав небольшую паузу, он многозначительно добавил: — Между прочим, имею к вам просьбу. Я приготовил белье, отдайте его, пожалуйста, на воле постирать.
— Да, да, конечно, — в тон ему ответила я. — А у меня для вас небольшой гостинец — вишневое варенье… Вы ведь, кажется, любите его?..
— О-о, еше как! — Лепешинский понимающе закивал.
Все, что нужно было передать, мы передали, не вызвав у жандарма ни малейших подозрений. Далее разговор принял сугубо личный характер. Полушутливо и в то же время приподнято мой «жених» говорил, что каждое наше свидание вызывает у него желание творить, писать, мыслить; но что потом, позднее, ему все здесь становится противным и постылым, не исключая и собственной персоны, в результате чего у него появляются мысли такие же невеселые, как ползучие осенние облака.
С течением времени я привыкла быстро и точно определять настроение Пантелеймона Николаевича. И когда я видела его грустным, — становилось очень жаль, хотелось как-то облегчить его состояние. Впрочем, он был весьма чуток и умел быстро переключаться.
— Все это ерунда! — говаривал он. — Тюрьма есть тюрьма. В ней даже маленькое событие способно выбить арестанта из привычной колеи… К примеру — так: я радуюсь тут каждой хорошей книге и приму за великое горе, ежели ко мне на свидание не придет невеста…
Быть может, меня упрекнут в излишне детальном описании лирических подробностей, интересных, на первый взгляд, лишь для нас — меня и Лепешинского, женой которого я впоследствии стала. Но дело в том, что речь-то идет не об одной только лирике.
Вспоминая наши с Пантелеймоном Николаевичем отношения, я хотела бы показать моим молодым читателям — как трудно было жить моему поколению, как самые чистые наши чувства попирались жандармами и произволом царских властей. И все же мы и тогда старались — и умели — пользоваться счастьем, которое дает молодость каждому. И главное в этом счастье состояло в том, что наша личная жизнь была всегда неотделима от революционной борьбы, от общественной деятельности, в которую мы вкладывали все свои силы.
И сейчас, на склоне своих дней, я скажу: громадное, неоценимое счастье — пройти по жизни с человеком, с которым тебя соединяет не только интимное чувство, но и общность целей и единство идеалов. У нас с Лепешинским было именно так.
Бывало, иду к нему на свидание, шагаю по унылой, прямой, как палка, Шпалерной и стараюсь представить себе — как они там живут, как проводят свои дни и ночи в каменных мешках наши милые узники… Свидания происходили в помещении, расположенном невдалеке от входа. Здесь было холодно и казенно — как и в любом царском учреждении, особенно такого типа, — но тюрьма как-то не ощущалась, ибо собственно камеры и тюремные корпуса находились в глубине.
На свиданиях, разумеется, я не могла удовлетворить свое желание узнать подробнее о жизни Пантелеймона Николаевича и его товарищей по заключению. Но потом он многое рассказывал мне о днях, проведенных в узилище (так в старину называли тюрьму).
Все арестованные социал-демократы, а также и Лепешинский сидели в одиночках. И все же они умудрялись поддерживать связь друг с другом. При всей строгости тюремного режима, возможностей для сношений между изобретательными заключенными было много.
Лепешинский и Радченко сконструировали своеобразное приспособление для передачи почты. С этой целью были использованы лучинки от корзиночки, в которой я принесла как-то своему «жениху» малину. Пантелеймон Николаевич сделал из лучинок, связав их одну с другой, шест длиной в сажень. Пользуясь тем, что оконное стекло в камере Радченко было разбито, они с помощью этой импровизированной «удочки» передавали друг другу записки и целые письма.
Широко были распространены разговоры посредством перестукивания. Перестукивались не только с соседними камерами справа и слева, но — по паровой трубе — и по вертикали, с любым этажом. Все книги тюремной библиотеки носили следы общения между заключенными — чуть заметные уколы иглой под буквами. Иногда заключенные видели товарищей на лестнице или в коридоре, при выходе на допрос или на прогулку. Прогулки тоже использовались: можно было перебросить через забор, отделявший один прогулочный дворик от другого, записочку.
Для связи Лепешинского с волей почтальоном служила я.
— Свидание закончено! — как-то всегда неожиданно говорил жандарм, прерывая нашу встречу.
Я уходила и уносила с собой узелок с бельем Пантелеймона Николаевича для стирки. Придя домой, вынимала сорочку и тщательно осматривала швы. Обычно записка была заделана так искусно, что приходилось затратить немало времени, чтобы обнаружить ее. Наконец, найдя нужное место, я подпарывала шов, доставала записку, написанную мелким-мелким почерком на папиросной бумаге, и прочитывала ее.
В то же самое время Пантелеймон Николаевич у себя в камере принимался за доставленное ему мной вишневое варенье. Особенно осторожно ел он ягоды, ибо его интересовали косточки. В одной из ягод он находил вместо косточки полый металлический шарик, в который была заложена записка с воли, информирующая его о положении дел.
Свидания разрешались по четвергам и воскресеньям. В промежутке между ними я выполняла все просьбы и задания Лепешинского, содержавшиеся в записке, и шла на очередное свидание с отчетом и с новой запиской, запрятанной в варенье.
Однажды Пантелеймон Николаевич сделал мне неожиданный и очень ценный подарок. Это был первый том «Капитала» Карла Маркса. Он получил его с воли еще до того, как я начала посещать «Шпалерку». В те времена книга эта представляла для нас, молодых марксистов, исключительную ценность; поэтому можно себе представить, как я была довольна подарком.
Впрочем, подарок этот был для меня дорог еще и другим — Лепешинский, передавая мне эту книгу, сказал в некотором смущении:
— Такую книгу могу подарить только самому близкому человеку…
Это было своего рода полупризнание. Дружба наша становилась все тесней, все теплей. Так продолжалось в течение всего 1896 и части 1897 года.
1897 год памятен для меня еще одним событием. В Петербурге состоялась политическая демонстрация студенчества и молодежи, вызванная произволом царской администрации по отношению к революционерке Ветровой.
Мария Ветрова, двадцатишестилетняя студентка, учившаяся на Бестужевских курсах, была связана с «Группой народовольцев». Ее арестовали в декабре 1896 года и содержали в Петропавловской крепости, в одной из камер Трубецкого бастиона, где впоследствии находился в заключении и Лепешинский. В один из февральских дней 1897 года Мария Ветрова, решив выразить свой протест против издевательств, которым ее подвергли тюремщики, облилась керосином и подожгла себя.
Ее самоубийство и упорные слухи о том, что она стала жертвой насилия, послужили поводом к бурным демонстрациям, прошедшим в Петербурге, Москве и Киеве.
На улицы Петербурга вышла революционная молодежь, неся впереди траурные знамена и портрет Ветровой. Гневно и торжественно гремела революционная песня «Вы жертвою пали в борьбе роковой».
Вместе с другими девушками с Рождественских курсов я принимала участие в этой демонстрации. Вместе со всеми пела и чувствовала, как меня охватывает неудержимая ненависть к царским палачам, замучившим насмерть молодую революционерку.
Демонстрация медленно приближалась к Казанскому собору, все время увеличиваясь в размерах, как вдруг из переулка выехала и поскакала навстречу нам конница. Вооруженные казаки заставили голову демонстрации повернуть к Манежу; а когда мы туда приблизились — ворота этого громадного здания раскрылись, и нас — тесня лошадьми и подстегивая нагайками — загнали внутрь здания.
Прошел час, другой… Мы продолжали оставаться взаперти. Но никто не падал духом. Песня сменялась песней. Слышался смех, но чаще — гневные возгласы в адрес угнетателей. Наступил вечер, прошла ночь, лишь к утру нас освободили.
Как потом выяснилось, помогло нашему освобождению ходатайство директоров учебных заведений Петербурга. В демонстрации участвовало почти все петербургское студенчество, и некому было бы на другой день заниматься на лекциях. Назревал скандал.
На меня эта демонстрация общей воли и силы произвела глубочайшее впечатление. Впервые я так ясно и ощутимо почувствовала, что такое народный протест, когда он объединен одним стремлением.
ЮЗОВКА
И «КУЛЬТУРНЫЙ
КАПИТАЛИЗМ»
Мои занятия на курсах шли между тем своим чередом. Я успешно сдала экзамены и перешла на четвертый курс. До окончания оставалось немного. Как раз в это время из Юзовки (это нынешняя столица Донбасса — Донецк) пришел запрос: просили прислать в одну из местных амбулаторий фельдшерицу на временную работу.