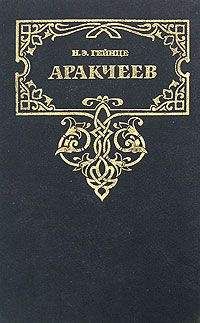Павел Кириллович направился к шифоньерке. Капитан, сидя на стуле против хозяйского вольтеровского кресла, опустил голову.
— Не может быть, — вдруг заявил он, — резоны он мне представил, почему относительно меня такой «казус» вышел: однофамилец и даже соименник со мной есть у нас в бригаде, тезка во всех статьях и тоже капитан, и сам я слышал о нем, да и его сиятельство подтвердил, такой, скажу вам, ваше превосходительство, перец, пролаз, взяточник… за него меня его сиятельство считали, а того, действительно, не токмо к наградам представить, повесить мало…
Павел Кириллович уже вложил ключ в ящик шифоньерки, как вдруг вынул ключ и возвратился в кресло.
— Взяточник, пролаз… Все у него взяточники да пролазы, ишь какой указчик объявился, почему это до него на Руси матушке взяточников не было, многие, кого он взяточниками обзывает, при Великой Екатерине службу несли. А почему тогда взяточников не было? Почему?
Он даже нагнулся к капитану.
— То есть, как не было, ваше превосходительство, чай, и тогда бывали… только надзора строгого не было… — осмелился возразить капитан.
— Надзоров не было… — передразнил его Зарудин. — Молод ты еще о старших так рассуждать… зелен ум у тебя, вот что… — рассердился Павел Кириллович.
Иван Петрович промолчал.
— Пойди, пойди пообедать к твоему надзирателю излюбленному, угостит он тебя обедом… угостит… поперек горла встанет и не проглотишь. Бывали примеры, что люди после таких обедов и кочурились…
Костылев снова не на шутку перепугался. Раздраженный Павел Кириллович постарался усилить это впечатление испуга храброго кавказца, рассказывая все ходившие в среде враждебной ему партии небылицы о бесчеловечности и зверстве всемогущего графа.
Капитан ушел почти убежденный, что ему вместо обеда предстоит назавтра гнусная ловушка, а затем жестокая казнь.
— Ты завтра заходи после обеда-то у твоего благодетеля, коли жив, да на свободе останешься, — преподнес ему на прощание Зарудин.
На другой день, впрочем, раздражение Павла Кирилловича против капитана прошло и он сам, как мы видели, стал тревожиться, как бы не исполнились над сыном его покойного друга вчерашние предсказания.
Сыну, не бывшему накануне дома, он сообщил случай с капитаном, но не рассказал высказанных последнему своих соображений: он сына своего считал тоже аракчеевцем, так как тот не раз выражал при нем мнения, что много на графа плетут и вздорного.
Павел Кириллович сперва за это на него очень сердился, а затем махнул рукою и отводил душу, беседуя об Аракчееве с другими и то не в присутствии сына.
— Убей меня Бог, коли я не прав, за реку отправил молодца изверг, — продолжал разговаривать сам с собою Зарудин. — Время-то вон уже какое позднее…
Часы показывали седьмой час в исходе. В передней раздался звонок.
— Неужели он? Нет, голову прозакладываю, что не он, за рекой он уже теперь, чай, в каземате думку думает, — упрямо проворчал старик.
Дверь кабинета отворилась, и на ее пороге появился весь сияющий, видимо, от счастья, Иван Петрович Костылев. На груди его сюртука блестели два новеньких ордена. Павел Кириллович был совершенно озадачен таким торжественным появлением предполагаемой им жертвы аракчеевского деспотизма, и тревога за судьбу капитана быстро сменилась раздражением против него.
— Кажись, и сыт, и пьян, пане капитане! — иронически обратился он к нему.
— Не капитан, ваше превосходительство, а полковник и кавалер Георгия и Станислава.
Иван Петрович указал на новенькие ордена.
— Это как же так, расскажи! — растерянно произнес не ожидавший такого оборота дела Зарудин.
— Напугали вы меня, ваше превосходительство, понапрасну только, снова повторю: не начальник граф Алексей Андреевич, а золото для помнящих присягу служак, сказочно, можно сказать, случилось это, все повышения и ордена за обедом в какой-нибудь час времени получил… — залпом выпалил Костылев.
— Да ты расскажи толком.
Иван Петрович передал, что пришел он на обед, после насказанных ему Павлом Кирилловичем страстей, ни жив, ни мертв, застал общество в мундирах и звездах; все с недоумением смотрели на него, бывшего, по приказанию графа, в сюртуке. Но каково же его и всех остальных было удивление, когда Аракчеев, представляя его, назвал своим приятелем. Когда подали шампанское, граф рассказал, как, по его ошибке, капитан был обходим множество раз разными чинами и наградами, и что он желает теперь поправить сделанное капитану зло, а потому предлагает тост за здоровье подполковника Костылева; далее, говоря, что тогда-то капитан был представлен к награде, пьет за полковника Костылева, затем за кавалера такого-то и такого-то ордена, причем и самые ордена были поданы и, таким образом, тосты продолжались до тех пор, пока он, капитан, не получил все то, что имели его сверстники.
— Век не забуду его сиятельства, в поминание запишу за здравие, детям и внукам закажу молиться за него, — закончил с восторгом Иван Петрович.
Зарудин слушал и хмурился.
— В добрый час ты попал, таких часов у него раз, чай, лет в десять бывает… рад за тебя, рад, хотя многих людей знаю, которые фаворитами его быть за бесчестие почитают и по-моему правильно.
— Нет, ваше превосходительство, этого не говорите, — расхрабрился новоиспеченный полковник, — какой уж тут правильно. Всем известно, что граф Алексей Андреевич царскою милостью не в пример взыскан, а ведь того не по заслугам быть бы не могло, значит, есть за что, коли батюшка государь его другом и правою рукой считает, и не от себя он милости и награды раздает, от государева имени… Не он жалует, а государь…
— А знаешь пословицу «жалует царь, да не жалует псарь»?
— И пословица эта, вы меня простите, ваше превосходительство, тут ни к чему, и смысла применения оной понять не осмеливаюсь.
— И не осмеливайся… и благо тебе, а за тебя я рад, одно скажу, рад, покойного отца твоего любил, — счел за нужное переменить разговор Зарудин.
Разговор перешел на воспоминания и, наконец, полковник Костылев откланялся Зарудину, объявив, что завтра же уезжает к месту своего служения.
— И его сиятельство сей мой прожект одобрил: «Нечего, говорит, тебе здесь зря болтаться, еще испортишься».
— Ну, прощай, поезжай с Богом, дай тебе Господь куль червонцев и генеральский чин! — пошутил Павел Кириллович.
О своей отставке он так и не рассказал Костылеву.
По уходе Костылева старик Зарудин еще долго в раздумьи ходил по кабинету и, наконец, отправился на половину своего сына, у которого в тот вечер собралось несколько его товарищей.
В кабинете Николай Павловича шла оживленная беседа. Дым от трубок наполнял обширную, с комфортом меблированную комнату и запах табака смешивался с запахом истребляемого стакан за стаканом крепкого пунша.
Кроме хозяина, в комнате находились три офицера и молоденький юнкер. Старший из них был капитан гвардии Андрей Павлович Кудрин, выразительный брюнет с неправильными, но симпатичными чертами изрытого оспой лица — ему было лет за тридцать; на его толстых, чувственных губах играла постоянно такая добродушная улыбка, что заставляла забывать уродливость искаженного оспинами носа, и как бы освещала все его некрасивое, но энергичное лицо. Храбрый до отваги, добрый, но справедливо строгий, он был кумиром солдат и любимец той части своих товарищей, которые искали в человеке не внешность, а душу.
К последним принадлежал и Николай Павлович Зарудин и был всем сердцем привязан к Андрею Павловичу. Их даже в полку в насмешку прозвали inseparables. Не было у них друг от друга тайн, они жили, что называется, душа в душу.
Два других офицера были поручики Смельский и Караваев, приятели и однополчане Зарудина, с которыми свели последнего общность взглядов, общая наклонность к размышлению, отвращение к переходящим меру кутежам и дебошам, и пожалуй, общее подозрительное отношение к ним начальства. По внешности это были белокурые, бесцветные офицеры, физиономии которых по этой причине не стоят описания. Художник не поместил бы их на батальной картине, а плохой портретист сделал бы с них весьма схожий портрет — так они были шаблонны.
На последнем госте Николая Павловича молоденьком юнкере — Антоне Антоновиче фон Зеемане мы остановим на более продолжительное время внимание читателя, так как этому молодому человеку придется играть довольно значительную роль в нашем правдивом рассказе.
Потеряв не так давно свою мать, оставившую ему, как единственному сыну, — отца он лишился ранее, — хорошее независимое состояние, он выхлопотал себе перевод в тот гвардейский полк, где служили Николай Павлович и Кудрин, и сразу почувствовал к ним род немого обожания. Это не укрылось от «предметов его восторженного поклонения» и последние, увидав в нем доброго, отзывчивого на все хорошее юношу и, вместе с тем, хорошего служаку, стали с ним в товарищеские отношения, вследствие чего Антон Антонович почувствовал себя на седьмом небе.