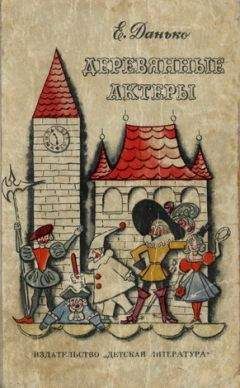И Гоцци заливался хрипловатым добродушным смехом, вспоминая былые проказы. А у меня в голове гвоздём засела одна мысль, от которой мне даже стало жарко. Я задумался. Дым и чад от сгоревшего клея, который я забыл на огне в плошке, заставили меня очнуться.
– Ты, Пеппо, совсем как Труффальдин: заслушался пения голубки и спалил жаркое, – засмеялся Паскуале.
– Хорошо сказано, мальчик! – воскликнул синьор Гоцци.
А я думал: значит, и кукол можно делать похожими на живых людей!
Я вырезал Тарталью похожим на Паскуале. У него был такой же остренький нос, маленький рот и белокурые, волосы.
И, кроме того, я начал вырезывать ещё двух кукол, о которых не должен был знать никто, кроме нас с Паскуале.
Дюжий Мариано сидел на табурете, положив на стол тяжёлые красные руки с обкусанными ногтями, и, поглядывая исподлобья то на синьора Гоцци, то на дядю Джузеппе, быстро отводил глаза.
– Уж не знаю, что вам сказать, синьоры… Я, конечно, готов представить «Три апельсина» в моем балагане… Да вот беда: у меня нет денег, чтобы заказать столько новых кукол… Да и кто будет ими управлять? Ведь я один. Пьетро с грехом пополам дергает нитки, а Лиза и вовсе ничего не умеет…
– Слушайте, Мариано, – нетерпеливо перебил его дядя Джузеппе, – я дам вам тридцать новых кукол и сделаю все декорации. Управлять куклами будут мальчики – Паскуале и Джузеппе. Вы их научите этому. Вся выручка с представления будет ваша.
Мариано радостно сверкнул глазами, но тотчас же опять стал смотреть в землю.
– А когда это будет, дядюшка Джузеппе? Ведь скоро начнется пост, театры закроются. Если до поста я успею только раз или два представить вашу сказку, – мне нет расчета с этим возиться…
– Вы успеете представить эту сказку десять, нет – пятнадцать раз, и каждый раз вся выручка будет ваша, – сказал Джузеппе.
– Коли так, будь по-вашему!
Они хлопнули рука об руку. Синьор Гоцци молчал, перелистывая какую-то книгу. Он не любил Мариано. Мариано встал, взял шапку и кивнул нам с Паскуале.
– Идёмте со мной, молодцы!
Мы взяли Труффальдина и Тарталью и пошли за ним.
При дневном свете балаганчик Мариано казался грязным и убогим. Старый скрипач подметал земляной пол, поднимая облака пыли. Долговязый парнишка, проходя мимо, больно задел меня ящиком с куклами и буркнул: «Чего стал, ротозей?» А кудрявая девушка надулась, узнав, что Паскуале будет петь песенку голубки. Она совсем разозлилась, когда старый Якопо, оставив метлу, взялся за скрипку и, попробовав голос Паскуале, воскликнул:
– Ого, Лиза, тебе никогда не взять такого фа! – и хлопнул Паскуале по плечу.
Мариано подвёл нас к сцене. Без декораций она показалась нам пустой и скучной. Это была небольшая площадка из гладких досок, положенных на широкие козлы. Позади площадки стояли другие козлы, повыше. На них лежала широкая доска. Эта доска позади кукольной сцены зовется тропой. Кукольник стоит на ней, держит вагу куклы в одной руке, а другой дергает нужные нитки. Кукла шагает внизу, по дощатому полу сцены.
Во время представления козлы, на которых лежит сцена, закрыты разрисованным полотном. Занавески по бокам и верхняя занавеска над отверстием сцены не позволяют зрителю видеть кукольника за работой. Задняя декорация загораживает тропу и ноги кукольника.
Зритель видит только освещенное отверстие сцены, обрамлённое занавесками, в котором бегают, танцуют и дерутся куклы.
Мариано прикачал мне влезть на тропу и взять вагу Труффальдина. Я попробовал провести Труффальдина по сцене, но Труффальдин не пожелал идти. Он завертелся, как веретено, закручивая свои нитки тугим жгутом.
– Держи вагу ниже! – крикнул Мариано.
Я опустил вагу. Ножки Труффальдина стукнули о пол.
Он перестал вертеться, но мне пришлось завертеть его в обратную сторону, чтобы раскрутить нитки.
Расправив нитки, я опять повёл Труффальдина. Не тут-то было. Труффальдин шагал одной левой ногой и волочил правую, скривившись на правый бок. Я никак не мог заставить его идти по-человечески.
Мариано крепко выругался, вскочил на тропу и вырвал у меня вагу из рук.
– Вот как надо водить!
Мариано двигал пальцами, равномерно поднимая и опуская рога полумесяца, и в то же время плавно вёл вагу над сценой, держа руку на одной и той же высоте.
Труффальдин четко топал ножками и бежал по сцене, как живой.
Но едва вага очутилась в моей руке, Труффальдин принялся за прежнее. Он шагал левой ногой и волочил правую.
Я начал изо всех сил раскачивать пальцами полумесяц, равномерно поднимая и опуская его рога. Труффальдин зашагал правой и левой, но как зашагал! При каждом шаге его деревянное тельце круто поворачивалось то направо, то налево, голова подпрыгивала, руки болтались врозь, словно он не шёл, а плясал какой-то дурацкий танец.
Паскуале, чуть не плача, возился с Тартальей. Тарталья упрямился не меньше, чем Труффальдин. Его тонкие голубые ножки то заплетались, то разъезжались врозь. Он то качался, как маятник, то волочился по сцене.
Управлять куклами, стоя на тропе, оказалось труднее, чем на полу каморки дяди Джузеппе.
Мариано стоял перед сценой и покрикивал на нас:
– Пеппо, не вертись! Пеппо, не подгибай колени! Куда ты ползёшь, дуралей! Паскуале, не ходи по воздуху! Я тебе полетаю!
Нужно ли говорить, что я вовсе не подгибал колени, а Паскуале не собирался ходить по воздуху? Всё это проделывали куклы в наших неумелых руках.
Опустишь вагу чуть-чуть ниже, чем следует, – кукла подгибает колени. Приподнимешь вагу – ножки куклы отделяются от пола, и она висит в воздухе! Забудешь на миг про то, что надо равномерно раскачивать полумесяц, – ноги у куклы заплелись, и она не идет, а тащится по сцене.
А когда дело дошло до того, чтобы заставить куклу поклониться на ходу, или поднять ручки, или опуститься на одно колено, – я чуть не взвыл. У меня не хватало пальцев, чтобы дергать все нужные нитки, да и не знал я, которую нитку надо потянуть. Хочешь, чтобы кукла подняла руку, дёрнешь нитку, а у куклы поднимается нога. Хочешь, чтобы кукла стала на колени, а она ложится животом на сцену и на животе сползает вбок.
Немало тумаков получили мы от Мариано, немало насмешек услышали от долговязого Пьетро. У меня до боли устала рука, державшая вагу над сценой. Спину ломило. В глазах рябило от ниток, которые приходилось дергать. Мне казалось, я никогда не научусь водить кукол.
Усталые ушли мы из балаганчика поздно вечером. Бедняга Паскуале еле ковылял. Но всё же счастливо улыбался и говорил:
– Как будет хорошо, когда мы научимся водить кукол!
Мы приходили в балаганчик рано утром, а уходили домой поздно вечером, иногда вовсе не уходили, а укладывались спать на крашеных полотнах в углу. Мы боялись встретить на улице тётку Теренцию или аббата Молинари.
И вот однажды, когда мы шли в балаган, Паскуале, побледнев, зашептал мне:
– Смотри, смотри, Пеппо!
Навстречу нам выступала Барбара, возвращавшаяся с рынка. Мы остолбенели.
Вдруг на другой стороне улицы раздался крик. Подрались две торговки. Все бросились их разнимать, Барбара – тоже, а мы улепетнули в переулок и, запыхавшись, прибежали в балаган.
Долговязого парнишку звали Пьетро. Он смотрел на нас злыми глазами и всегда старался нам напакостить.
То будто нечаянно уронит моего Труффальдина, а ты потом сиди и распутывай нитки под ворчанье Мариано. То вобьет гвозди в тропу, и мы рвём штаны, то подставит ножку Паскуале, и тот упадёт на пол под хохот Лизы. Однажды я поймал Пьетро на том, что он ударил молотком по ножке Тартальи.
– Что ты делаешь? – крикнул я.
– У хромого чертёнка и куклы должны быть хромые! – злобно ответил Пьетро.
Я кинулся на него. Он кусался, как собака, отбиваясь от меня, но я всё-таки сел на него верхом и тузил его изо всех сил. Лиза оттащила меня за шиворот и утерла Пьетро разбитый нос, но Пьетро от меня здорово-таки попало. С тех пор он не смел трогать наших кукол.
Так я научился защищать нашу работу.
Наконец наступило утро первого представления. Паскуале, нагнувшись с тропы, в сотый раз повторял сцену с апельсинами. Большой картонный апельсин лежал на полу. Паскуале дергал его за ниточку, и он распадался на шесть ломтиков. Из его жёлтой середины подымалась на нитках маленькая красавица и протягивала ручку. Паскуале говорил за неё жалобно: «О, дай мне пить!» – и ронял её на сцену, будто она упала в обморок.
Я возился с Труффальдином, проверяя его нитки. Пьетро начистил мелом медные бляхи на бубне, приколол на свою шляпчонку какой-то цветок и повязал себе на шею огненную тряпицу.
– Гляди, как расфрантился, настоящий индюк! – крикнул я Паскуале.
– А тебе завидно? – огрызнулся Пьетро, охорашиваясь перед осколком зеркала.
– Пьетро, куда ты запропастился, чертёнок? – крикнул с улицы Мариано.
Пьетро, схватив бубен, выбежал на улицу. Я выглянул тоже. Мариано, Лиза и Пьетро пошли по улице. Лиза наигрывала на гитаре, украшенной розовым бантом, Пьетро бил в бубен, а Мариано, сняв шапку, кричал: