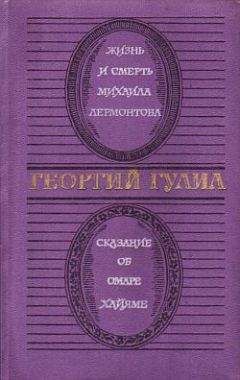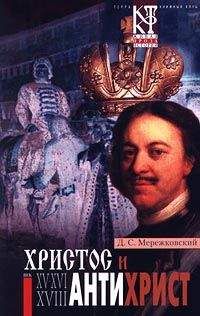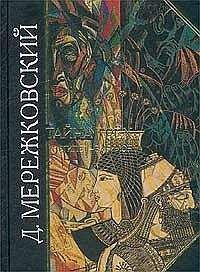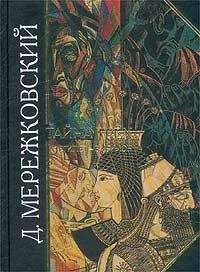Абсолютно достоверно – и это подтверждено самим поэтом, – что в 1825 году состоялась одна из первых и весьма памятных поездок Мишеля на Кавказ. Известно, кто поехал вместе с ним: разумеется, бабушка, доктор Леви, Иван Капэ и Христина Осиповна, а также Михаил Пожогин-Отрашкевич и кузины Лермонтова – Мария, Агафья и Александра Столыпины. Я ни минуты не сомневался в том, что «детское общество» было специально подобрано для Мишеля Елизаветой Алексеевной.
Пагануцци почему-то считает, что все «три маршрута» начинались в Москве. Для этого Арсеньевой с внуком пришлось бы проделать крюк в несколько десятков верст. Проще было из Тархан ехать на Тамбов или Кирсанов, а уж оттуда выбираться на столбовую дорогу Москва – Воронеж – Черкасск – Ставрополь. Может быть, разок и заехали в Москву, но почему же обязательно все три раза?
В Пятигорске Арсеньева с внуком встретилась с Екатериной Хастатовой, жившей в Шелкозаводске, за Владикавказом, поближе к Кизляру. (Полагают, что Мишель побывал впервые в Шелкозаводске в 1818 году, и как доказательство этого приводят запись в альбоме матери Мишеля, который он возил с собою с детства; «1818 июля 30-го, Шелкозаводск». Запись эта сделана рукою П. И. Петрова под стихами, обращенными к Арсеньевой. Вторая запись в том же альбоме сделана дядей поэта А. А. Столыпиным: «Кислые воды, 1820-го, августа 1-го».)
Что касается самой достоверной поездки Мишеля на Кавказ – 1825 года, – Лермонтов оставил такую запись: «Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины». И тут же рассказывает о своей первой любви… «имея десять лет от роду». И мы читаем: «К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность… Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз». Это писалось шесть лет спустя с того памятного часа…
Что мог увидеть любознательный мальчик на Кавказе?
Укрепления, казачьи пикеты, войска с пушками, обозами, черкесов мирных в косматых бурках, офицеров на водах, людей цивильных, тоже приехавших полечиться. Но не только: а горы, а снеговые вершины, а грозы в горах, ливни, обвалы, бурные реки, а буйная зелень, а скалы? Разве этого мало для впечатлительной души? Кавказ всем своим своеобразием, всей разноплеменностью, войной и миром вливался в детскую душу незабываемыми картинами. Сюда надо прибавить и различные рассказы кавказских старожилов – и тогда будет понятно, что означали для Мишеля поездки на Кавказ. Здесь могли переплетаться и быль и небылицы, рассказы точные с рассказами нарочито гиперболизированными. Но суть не только в этом. А в том, главным образом, что воображение ребенка было возбуждено всей новизной бытия, ее неповторимостью, И несомненной романтичностью. Поэтому-то Мишель мог с полным основанием воскликнуть: «Горы кавказские для меня священны…»
Поездки на Кавказ оказались благотворными для Мишеля, (Я говорю сейчас не о его творчестве, но о здоровье.) Ребенок окреп, хорошо развивался. Как и в наше время, в ту пору принимали минеральные ванны и пили воду. Я не знаю дозировки. Нынче за этим очень внимательно следят. Были хорошие знатоки своего дела и в то время. Доктор Гааз, например, принимавший весьма деятельное участие в исследовании вод в Ессентуках, был крупным врачевателем. Но, наверное, кое-кто и перебарщивал в приеме вод. Не без этого. В Карловых Варах мне рассказывали, что Петр I, который приезжал туда для лечения, принимал в сутки до полусотни стаканов «шпруделя». Тогда это была «норма». Во времена Лермонтова, наверное, более осторожно относились к дозировке.
Из Тулы в Ставрополь путь был долгий: фельдъегерь при хороших лошадях покрывал это расстояние за семь суток. Думаю, что на бабушкином дормезе Мишель трясся не менее двух недель, учитывая, что из Тулы надо было ехать в Тарханы, а из Ставрополя добираться еще до Пятигорска. Как минимум – две недели! Так и путешествовали. Притом люди не простые, но имущие. Скажем прямо: без особой нужды не выедешь за ворота усадьбы в дальнее путешествие. Даже поездка из Тархан в Москву была целым событием, не говоря уже о поездке в Петербург, а тем паче – на Кавказ. (Надо ли говорить, что в то время еще не было железных дорог. Первая дорога с «паровиком» появилась в тридцатых годах. Она соединяла Петербург с Царским Селом и вызывала во многих суеверный страх.)
На Кавказе Мишель имел возможность в какой-то мере изучить нравы и характеры горцев. В памяти отлагались одни картины за другими. Их никогда не забудет Мишель. Пагануцци пишет: «Черкесы из соседних аулов ежедневно приезжали в Горячеводск для продажи бурок, седел и баранов… Из Горячеводска Лермонтов ездил в Аджи Аул на празднование байрама, на которое съезжалось все горячеводское общество. Устраивались джигитовки, пели, плясали и угощали всех гостей, а знаменитый певец Закубанья Керим Гирей пел под звуки пишнендук'окъо (вид арфы)».
Пройдет время, и в покоях тарханского дома Мишель все будет «лепить Кавказ», из воска, а позже напишет свое пылкое признание: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ…»
Из Пятигорска обратный путь лежал в Тарханы. По дороге – то дождь, то солнце с пылью. Дорога ведь грунтовая. Дормез по-прежнему тащится медленно. В этих поездках своя прелесть, если угодно, своя магия: много впечатлений, много времени для размышлений. Молодые могли любоваться природой, старые – подремать, вспомнить о молодости, загодя помолиться о собственной душе во спасение ее.
Елизавета Алексеевна с внуком вернулись в родные места. Мишелю было за десять: пора подумать о серьезном учении. Мы снова видим Мишеля в обществе своих сверстников, с которыми он проходит науки и делит досуг. Однако юное общество пополнилось: из ближайшего имения Апалиха к Мишелю явились его троюродные братья и сестра Шан-Гирея, дети родной племянницы Арсеньевой – Марии Акимовны Шан-Гирей.
Помимо прямых занятий Мишель продолжал лепить восковые фигурки, устраивал «театр», заставляя играть фигурки в собственных пьесах. Мишель в эту пору уже начинает рисовать. Рисунки он «заносит» в альбом своей матери, с которым редко расстается. К персонажам его восковых произведений и рисунков прибавились кавказские типы и боевые эпизоды.
В этот тарханский период Мишель предстает значительно развитым подростком. Да и в смысле поправления здоровья сделаны большие успехи: плечи широкие, грудь крепнет, золотуха заметно отступает, Нет, не пропали даром великие бабушкины заботы!
Комната Мишеля находилась в мезонине. Вот одно из самых ранних описаний тарханского дома и комнаты Мишеля, сделанное Н. Рыбкиным в 1881 году: «Я был в селе Тарханах. Это было большое здание с антресолями; кругом его сад, опустившийся к оврагу и пруду… В детской спальне поэта красовалась изразцовая лежанка; близ нее стояла кроватка и детский стулик на высоких ножках, образок в углу, диванчик и кресла. Мебель обита шелковой материей с узорами.» К нашему счастью, дом и усадьба сохранились почти в натуральном виде.
Мишель понемногу выходит из детского возраста. Глаза его теперь видят больше и лучше. А уши слышат яснее. И вся неприглядная крестьянская жизнь становится для него понятней. И все горше делается на сердце. Оказывается, крестьян не только порют, не только унижают, не только заставляют работать день-деньской, как рабов, но и продают их, как живой товар. Да, продают! И этому Мишель был свидетелем.
Что ему могла объяснить бабушка? Что мог сказать Капэ? Кто мог растолковать мальчику: отчего так скупа и строга с девушками хмурая ключница Дарья Григорьевна? Отчего столь различны две соприкасающиеся жизни: одна – полная достатка, счастливая барская жизнь, а другая – полунищенская, бесправная, крестьянская. Две жизни – две доли! Кто мог бы дать мальчику правильные ответы на эти «проклятые вопросы»?
Аким Шан-Гирей писал о той поре: «…Мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль… Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу».
Мальчик, по разным свидетельствам, продолжал выезжать к своему отцу в Кропотово. Цехановский писал в 1898 году, что дворовые люди Юрия Петровича еще живы и что, «по их рассказам, поэт был резвый и шаловливый мальчик, крепко любивший отца и всегда горько плакавший при отъезде обратно к бабушке». Надо думать, что со временем Мишелю стала более понятной семейная драма и любовь к отцу, которая никогда не затихала в его сердце, заилилась. И он, как видно, постоянно метался между отцом и бабушкой. Итак, семейные распри с годами не стали менее горькими. И впечатления от странной семейной жизни еще больше ранили ребенка и заставляли его бессильно вопрошать.