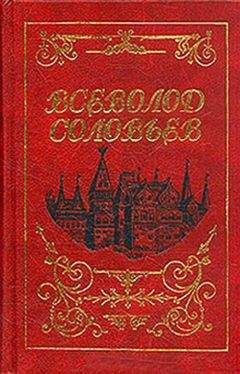Он держался, по больше части, особняком, но иногда вдруг, под влиянием неудержимого порыва, примыкал к сестрам и двоюродному брату, оживлял их, выдумывал всевозможные забавы, рассказывал им какие-то странные истории, которые неизвестно откуда брались у него, заинтересовывал их этими историями, запугивал их даже, действовал на них как-то магнетически, так что они все находились под его влиянием.
Потом вдруг остывал, отделялся от них и начинал снова жить своей, никому не ведомой, таинственной жизнью.
Он был добрый мальчик, очень чувствительный, чуткий: но вместе с этим иногда в припадке внезапного гнева, был способен прибить и сестер, и двоюродного брата, нагрубить гувернеру и гувернантке, нагрубить даже отцу, даже бабушке… В такие минуты, только «мама Наташа» могла его, да и то не всегда, уговорить и привести в себя.
Дети его не любили, и даже то магнетическое влияние, которое он имел над ними, было для них тягостно.
Весь этот день он был очень молчалив, ни с кем почти не сказал ни слова и только все пристально вглядывался в нового дедушку.
— Да перестаньте же! — еще раз своим тонким, властным голоском крикнул он. — Как будто не все равно: большой он или маленький! А знаете ли вы, что дедушка был сослан в Сибирь? Что он сидел в темнице долго-долго, что на нем были цепи?
Гриша, Соня и Маша раскрыли глаза и разинули рты. Этого они не знали.
— Кто тебе сказал? Откуда ты взял это? — в один голос, почему-то боязливо оглядываясь, прошептали они.
— Знаю, — спокойно и уверенно сказал Володя и так и не объяснил, откуда знает; но они ему поверили, как и всегда.
— Что же он такое сделал?
Володя пожал плечами, раздул свои тонкие ноздри и проговорил:
— Ничего дурного… Он был невиноват…
— Да кто же, кто тебе сказал все это?
— Я знаю! — опять таинственно произнес Володя, и дети больше ничего от него не могли добиться.
— Но ведь если он не был виноват, так значит… Значит, его приняли за другого! — вдруг рассудил Гриша.
— Может быть, не знаю! — рассеянно отвечал Володя и погрузился в задумчивость.
И не мог он из нее выйти во все время прогулки и потом, во время чая, и долго возился в своей постели, решая какие-то трудные и важные вопросы. Он то и дело приподнимался, широко раскрывал глаза и оглядывал всю большую комнату, едва озарявшуюся светом ночной лампадки. Он как будто хотел и ждал увидеть что-то особенное.
Но ничего особенного не было. Направо, из-за полумрака, выделялась всклокоченная голова молодого француза, с его торчавшей белой эспаньолкой. Француз то храпел, то вдруг начинал скрежетать зубами. Это была его особенность во время сна. Володя ненавидел это скрежетанье, оно доводило его иногда до бешенства. С другой стороны была кровать Гриши. Гриша как лег, так сейчас же и заснул, и теперь лежал, разметавшись, с открытым ртом, мерно дыша, лежал во всей красоте здорового и уставшего за день ребенка…
Девочки тоже давно уже спали в своей комнате. Но прежде чем заснуть, они передали друг другу свои последние впечатления, вызванные приездом дедушки.
— А я думала, — сказала Маша, — вот приедет дедушка и привезет много-много игрушек…
— И я тоже думала, — тихонько ответила Соня, — я даже представляла себе, какие это будут игрушки; особенно мне хотелось маленькую, но, понимаешь, настоящую, самую настоящую кухню.
— А может быть, еще будут игрушки, как думаешь, Соня?
Соня подумала немного.
— Да, будут, наверно, будут; бабушка говорила, что у дедушки много, очень много денег. Подождем, он опять приедет.
Хорошенькая Лили, раздевавшаяся в это время и слышавшая их тихий разговор, подумала, что ведь нужно бы было внушить им, что думать о подарках и ждать их нехорошо; но вдруг ее мысли ушли в другую сторону, она чему-то тихонько про себя улыбнулась и ничего не сказала своим воспитанницам…
Старшие еще оставались несколько минут на балконе по отъезде Бориса Сергеевича. Они тоже думали о нем и говорили.
— Ах, как он изменился, какой старик, я бы его никогда не узнала! — произнесла Катерина Михайловна.
— Что же удивительного, — заметила Наташа, — ведь годы его немолодые, а жизнь какая была? Боже мой, на каторге, в ссылке, всю жизнь изгнанник… Потерял жену… Детей… Остался один на свете… Что же может быть ужаснее такой жизни? И еще надо удивляться, как он так бодр и свеж…
— Да, удивительно бодр и свеж! — сказал Сергей. — Глядя, каким гоголем он выступал с тобой под ручку в парке, никак нельзя было сказать, что это такой несчастный человек…
— Tu exagère, Natalie, — заметила Катерина Михайловна, — ведь у каждого в жизни потери, каждый переживает трудные минуты.
— Тут не минуты, maman, a годы…
— Э, друг мой, люди везде живут, и в Сибири, и на краю света. Ведь он рассказывал, как там у них хорошо было… и потом — привычка…
— Нет, это не то, совсем не то!.. — упрямо повторяла Наташа. — Совсем особенная, высшая жизнь, и я никогда еще не видала такого интересного человека…
— Ну да, совсем заобожала, как в Смольном у вас, — смеясь, проговорил Сергей, кладя руку на плечо жены, — институтка ты моя неисправимая! Вот Мари, небось, не видит ничего особенного такого в дяде и чрезвычайного?
— Конечно, — ответила до сих пор молчавшая Мари, — что в нем особенного — красивый старик… Насколько он умен — сразу судить нельзя, в особенности мне, так как он со мной почти двух слов не сказал. Вот одно в нем разве удивительно: как это, всю жизнь прожив в дикой стране, Бог знает с какими людьми, он все же сохранил приличные манеры.
— Да, — усмехнулась Катерина Михайловна, — и я еще больше могу удивить тебя, представь — он теперь стал гораздо приличнее, он теперь гораздо лучше себя держит, чем в молодости, когда я его знала.
На этом кончился разговор о Борисе Сергеевиче. Все простились и разошлись по своим спальням.
Случилось то, чего никак не ожидал старый изгнанник, возвращаясь на родину, но что между тем было очень естественно. С первого же дня его стало тянуть в Знаменское, и не прошло и двух недель, как он там совсем освоился. Он уже несколько раз и в Горбатовском принимал всех знаменских жителей, от мала до велика.
В старом, еще так недавно заколоченном каменном доме и вокруг него все очень быстро изменялось. Целый день в открытые окна врывался свежий воздух, врывались солнечные лучи и вытесняли годами накопившуюся сырость и затхлость. Парк расчищался. Появился выписанный из Москвы садовник. Каждый день вырастали новые куртины и клумбы с цветами.
Борис Сергеевич по привычке вставал очень рано и до полудня работал, разбираясь в своем огромном, сложном и запутанном хозяйстве, так долго остававшемся на руках разных управителей, которые почти без исключения злоупотребляли своим положением и из которых многие, начавшие ни с чем, были теперь богачами.
Борис Сергеевич работал и приводил все в ясность с большим жаром и имел при этом вид человека с затаенною мыслью и планами, которых до поры до времени не хотел никому поверять. Да так оно и было.
Но как только пробьет полдень на старинных огромных часах рабочего кабинета, у дверей уже стучится Степан и объявляет, что готов завтрак. Борис Сергеевич складывает все бумаги и счета, запирает их на ключ в бюро и идет завтракать. Степан радуется, глядя на своего барина, и думает: «Ну, слава Богу, все отменно хорошо, другим стал Борис Сергеевич… И кушает больше прежнего… И ведь такой добрый, улыбаться стал, смеяться. После Нины Александровны таким еще его никто не видывал!.. Отменно хорошо!..»
— Прикажете закладывать? — спрашивал он барина. — В Знаменское поедем али к нам гости будут?
— Поеду, поеду, — рассеянно, но весело говорил Борис Сергеевич.
— Да что это вы, сударь, все туда да туда, — во время одного из таких завтраков сказал Степан, — к нам бы почаще дорогих гостей звали. Ишь ведь какой, обо мне небось не подумаете, вам-то хорошо, весело, а я тут один, как сыч! Жадный вы нынче стали, сударь, вот что! Все себе одному… А я бы вот на нашего Сереженьку порадовался, на супругу ихнюю, малых деточек… Ведь как намедни наехали, зазвенели деточки по всем комнатам, забегали — так-то радостно стало!..
— Так поезжай со мной в Знаменское, Степан, что же тут.
Но Степан нахмурился и покачал головою.
— Нет, батюшка Борис Сергеевич, не поеду! — решительно и упрямо сказал он.
— Что так?
— Сами знаете, не приходится мне к Катерине Михайловне ездить. Я для нее холоп и дальше прихожей носу не смею высунуть… Намедни вот я с Володенькой поговорить вздумал да по головке его погладил, а она и входит: тотчас отвела его от меня и внушает ему по-французски, будто я не понимаю… А я очень-таки разобрал: «Не связывайся, мол, со старым лакеем, он тебя грязными руками запачкает».