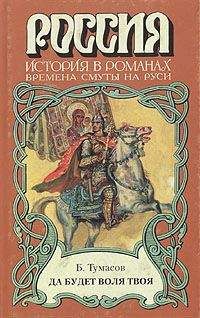Стрельцы загалдели:
— Сказывал, в лесу пережидать!
— Да он недолгий, эвон туча уплывает.
Мнишек задернула оконную шторку. Стрелец заметил, выругался:
— Ешь ее мать, рожи наши ей не по ндраву! Хучь бы баба как баба, а то и телес никаких, разве что задаста…
Стрельцы бесстыже загоготали:
— Вишь, Микишка всех баб по своей судит!
— А чего, братцы, у Микишки Мавра под семь пудов. Гы-гы!
— Микишка, а Микишка, как ты свою Мавру обнимаешь?
— Свою откорми, тогда и узнаешь…
Дождь как начался неожиданно, так и окончился. Тронулся, заскрипел рыдван.
Скопин-Шуйский в сопровождении полусотни конных московских дворян выбрался из Москвы и по истечении трех суток благополучно, не повстречавшись с неприятелем, который уже появился на северных дорогах, подъезжал к Твери. Позади княжьего возка катила просторная посольская колымага. Всю дорогу стольник Головин подремывал, будто решив отоспаться на будущее.
Князь Михайло Васильевич покликал в свой возок дьяка Афанасия Иванова. Царскому посольству надлежало из Новгорода добраться до земли свеев, сыскать их короля Карла IX, чей двор был либо в Стекольне (так в Москве именовали Стокгольм), либо в Упсале, и вручить письмо царя Василия Карлу. С содержанием письма Скопин был знаком: государь просил короля свеев не перечить своим рыцарям поступать на службу к царю московскому, для чего и послан в Новгород князь Скопин-Шуйский…
В душе дьяк бранил Василия Шуйского: к чему два лета назад отверг помощь короля свеев, похвалялся: он-де, царь московский, его, Карла, любви себе не ищет. А нынче — сказывают же, не плюй в колодец, пригодится водицы испить — королю кланяется. Дьяк понимал: помощь свеев будет не бескорыстна, Карл давно зарится на Копорье и иные новгородские земли.
Афанасий Иванов в летах, мудрый, наделен памятью цепкой и взглядом зорок. Двор короля Жигмунда описал красочно, Скопин его как наяву увидел, будто сам побывал в Варшаве.
По дороге дьяк жаловался на трудную посольскую службу, какие обиды им чинят, как годами живут без семьи в чужом краю. Плакался на несправедливость, самолично испытанную. Подарил ему государь за службу верную сельцо арзамасского помещика Попова, а у того защитник сыскался, Прокопка Ляпунов, и отняли у Иванова то сельцо. Царь не вступился за дьяка. Отчего бы? Видать, не посмел трогать дворян рязанских и арзамасских.
Скопин-Шуйский был согласен с дьяком: дворянство — сила и не доведи Бог переметнется к самозванцу. Отчего восстание Болотникова иссякло силой? От измены дворянской, когда братья Ляпуновы, Сумбулов и Пашков в самый разгар боя за Москву перекинулись к Шуйскому.
Скачут за возком дворяне — охрана Скопина. Не изменят ли, не бросят в минуту опасную? Афанасий Иванов словно прочитал мысли Скопина-Шуйского:
— Князь Михайло Васильевич, ну как мы в Тверь, а там воры?
— Попытаемся стороной объехать. Нам, дьяк, Новгород надобен.
Помолчал, спросил:
— Как мыслишь, встрянет ли Жигмунд в войну с нами?
Афанасий потер лоб:
— Коварен король, своего часа выжидает. Да и на сейме паны вельможные за сабли хватаются, на Москву навострились.
Скопин-Шуйский согласился с дьяком. Пока Сигизмунд питает надежду получить Смоленск и иное порубежье от самозванца, Речь Посполитая войну не начнет, но как побьют вора, так и жди напасти.
— Как ни прикидывай, дьяк, а выходит одно: пойдет на нас Речь Посполитая. А посему, Афанасий, тебе свою службу надо исполнять исправно, Карла улещать, а мне ратников в Москву вести. И не токмо самозванца одолеть, но, коли того земля российская потребует, отстоять ее, многострадальную, потомкам нашим оставить цельной, в клочья не разорванной.
Дьяк согласился. Князю ведомо: царь, напутствуя Афанасия и стольника Головина, велел соглашаться наряду со свеями, даже если они затребуют Корелу.
Всего раз и повидал Иванов этот городок, когда десять лет назад подписывали Тявзинский договор{20} и Швеция вернула Корелу России. Пятнадцать лет хозяйничали свеи в Кореле, разрушили многие укрепления, возведенные еще новгородцами. Для них Корела, стоявшая на берегу порожистой Вуоксы с каменным детинцем и круглой сторожевой башней, была не просто крепостью — она стерегла путь к морю, которым торговые люди плавали к немцам…
Теперь эту землю он, Афанасий Иванов, со стольником Головиным должны обещать королю свеев, только бы тот послал своих рыцарей в подмогу Шуйскому. И дьяку делается страшно: самим впустить свеев на Русь…
С монастырских стен вражеский лагерь как на ладони. Два укрепления — одно на юго-востоке, другое на западе, — а на высотах пушки.
Лазутчики вызнали, у врагов девять батарей: шестьдесят три разные пушки зевами на лавру нацелились, где за стенами укрылись мужики и бабы с детьми, монахи и стрельцы. Поднимается Акинфиев на башню, смотрит, как ляхи и литва, казаки и ватажники копошатся, из леса бревна волокут, плотницких дел умельцы топорами стучат, передвижные турусы на колесах{21} мастерят, щиты из лозы вяжут — прикрытие для пищальников с рушницами{22} и лучников.
Беспокойная мысль у Артамошки: нелегко будет отбиться, эвон во сколько раз неприятель превзошел их в силе! Куда Акинфиев глазом ни поведет, враги ровно муравьи копошатся.
Разглядывает недругов и архимандрит Иоасаф. Мудр старый монах, и думы у него мудрые. Архимандрита не только оборона заботит, но и то, как прокормить такое множество люда, что в осаде оказался. Воеводы разделили мужиков по отрядам, место на стенах каждому указали, проверили сохранность порохового зелья и ядер. А на звоннице Духовской церкви зоркие наблюдатели, чуть заметят тревогу, бьют в набат.
Богата Троице-Сергиева лавра вкладами и подношениями царскими и боярскими, трудом крестьян-хлебопашцев и ремесленников. Полны ее житницы и закрома зерном и мясом-солониной, копченостями и ягодой сушеной, медом и пивом. Не на один год запасы монастырские. Однако не ведали монахи, что до трех тысяч народа соберется под защиту лавры.
Отныне архимандрит сам станет вести строгий учет всего продовольствия. Кто ведает, сколько в осаде сидеть? Проклятые шляхтичи и казаки перекрыли своими заставами все дороги и тропы в лавру, задумали народ голодом уморить. Винные и пивные погреба Иоасаф самолично открывал, никому ключ не доверял, вино выдавал только раненым.
Иоасаф спустился со стены, мелко зашагал в свою палату. В кой раз посокрушался, что нет рядом келаря Авраамия Палицына. Так уж случилось, накануне осады отъехал он в Москву, к патриарху. Послал архимандрит через Палицына письмо государю, бил челом, просил стрельцов для охраны лавры, но Василий пока отмалчивается.
Шел архимандрит по двору, кивал одобрительно: люди не бродили без дела. Даже детишки собирали вражеские стрелы, относили их лучникам, а кто постарше носили пушкарям ядра, которые в последние дни неприятель щедро обрушивал на лавру.
Архимандрит подумал о том, что нельзя без кузни, надобно поспрошать, может, сыщется кузнец из мужиков: свой-то, монах Григорий, два месяца как умер. С того дня закрыта кузница, что в угловой башне.
Указали Иоасафу на Артамошку и Федора. Архимандриту мужики эти приглянулись, хоть и из ватажных. Но Иоасаф сказал сам себе: в нынешние времена вся Русь ими наводнена. А за то, что к самозванцу не подались, Бог простит им прошлые вины…
Уединившись в архимандритских покоях, Иоасаф достал чернила и перо, склонился над чистым листом. Он, Иоасаф, должен оставить после себя свидетельство того, как отражала лавра малым числом защитников несметные полчища врагов и какие лишения терпела святая обитель. Пожевав бесцветными губами, архимандрит вывел: «Если Бог за нас, то кто против нас?..»
Отбросив Хмелевского от Коломны и побив владимирского воеводу Ивана Годунова, Пожарский вел ратников в Москву. Осень была теплая, ясная, дождило редко. Князь Дмитрий Михайлович ехал верхом впереди стрелецкого полка. Карету он не любил, предпочитая ей доброго коня. Карета расслабляла, настраивала на благодушие.
Одетый в боевые доспехи, на коне Пожарский чувствовал себя воином. Даже сон в седле, короткий, чуткий, не утомлял. И саблю обнажить успеешь, коли какая опасность.
После ночного привала отдохнувшие стрельцы шагали бодро. Радовало скорое возвращение домой, в стрелецкие слободы, что в Белом городе. Там ждали их жены, семьи, огороды, ремесло: каждый из стрельцов промышлял на жизнь, жалованье стрелецкое малое, да и то с частыми задержками…
Конь под Пожарским порывался перейти на рысь, князь натягивал повод и думал о том, как легко бояре становятся переметами: вчера Шуйскому присягали, сегодня — самозванцу, а завтра снова подадутся к Василию. Он, Пожарский, тоже не без греха: когда первый самозванец в Москву вступил, признал его царем…