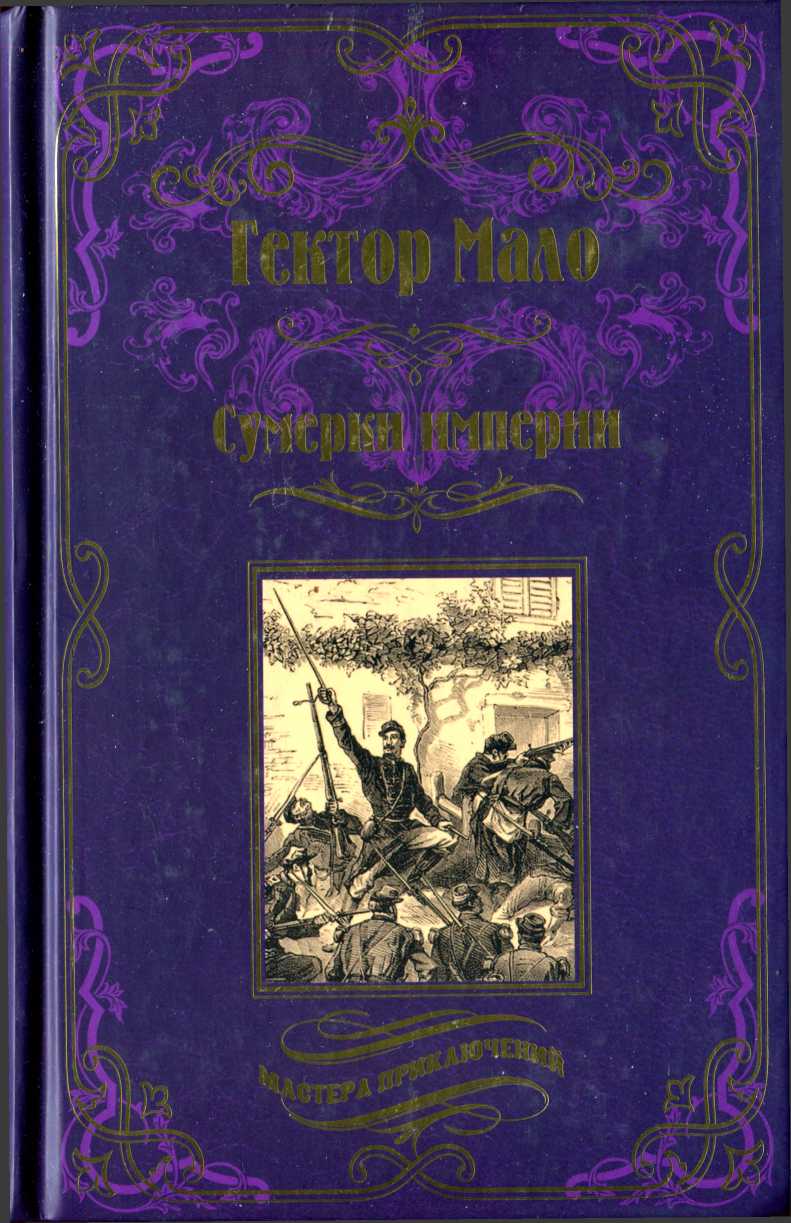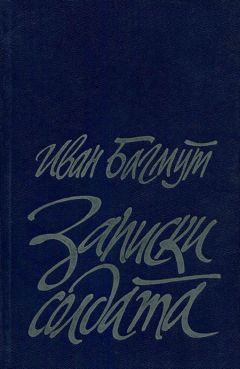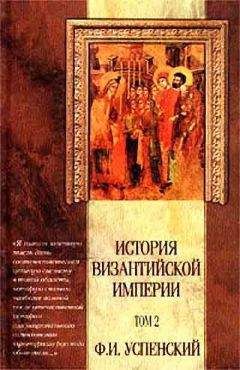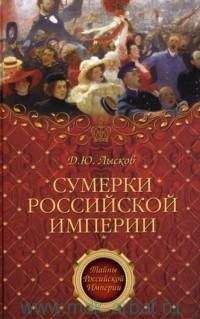"Гимна жирондистов из Бордо", начинаешь понимать, что человеческие голоса способны перекрыть даже гром небесный. Когда мы проезжали вокзалы, забитые солдатами, стоял такой рев, что у нашего вагона дрожали стекла, и даже когда станция оставалась позади, до нас еще долго доносились звуки воинственных песен. Я и представить себе не мог, что мне доведется столкнуться с подобным беспорядком и увидеть такое скопление людей. Но настоящий кошмар творился на пересадочных станциях. Дело в том, что вся эта орда направлялась не только к восточной границе. На восток везли лишь полки, прошедшие формирование, а одиночки, влившись в бесконечное количество человеческих потоков, текущих в противоположных направлениях, пытались самостоятельно добраться до своих сборных пунктов, причем одни ехали с севера на юг, а другие — с юга на север. Сегодня, вспоминая увиденное мною в те дни, я, как и тогда, безуспешно ищу ответы на давно терзающие меня вопросы: доводилось ли мне когда-либо в жизни встречать такое количество пьяных людей, происходило ли это наяву, и не было ли все это на самом деле ночным кошмаром?
Трудно было представить себе, что теперь эти люди станут моими боевыми товарищами, и с ними мне придется дальше жить бок о бок!
А еще от совершенного мною безрассудного поступка начала страдать моя совесть. Душа моя была бы спокойна, если бы на войну я пошел движимый чувством долга, патриотизмом, убеждениями. Но ведь это было не так! Я решил стать военным из-за любви и только для того, чтобы понравиться Сюзанне. Я собирался сказать ей: "Вот что я сделал ради вас, ну а что вы готовы сделать ради меня?" Правда теперь я и сам не знал, на что готова Сюзанна, ведь она не взяла на себя никаких обязательств. Конечно, если бы в тридцать лет я вернулся к ней в чине генерала, как Бонапарт, тогда мы вместе купались бы в лучах моей славы. А если по возвращении я буду лишь капралом или сержантом, а если осколок снаряда срежет мне нос или вырвет челюсть?
На свой поступок я смотрел довольно мрачно. Объяснялось это, разумеется, состоянием тревоги, не отпускавшей меня с самого отъезда, но больше всего я страдал, когда думал о той боли, которую неизбежно причиню моей матери.
Ведь она, бедная, всегда испытывала отвращение к войне и ужасно ее боялась. Что она скажет, узнав о моем решении? Написать ей я не осмелился. Я даже не отправил телеграмму, чтобы предупредить о своем приезде, рассчитывая, что будет лучше неожиданно свалиться ей на голову и уже тогда сообщить эту ошеломительную новость.
Но оказалось, что мать ничуть не удивлена моим приездом. После того как схлынула радость нежданной встречи и разомкнулись горячие объятия, она нежно и печально взглянула мне в глаза и спросила:
— Ты приехал ко мне, потому что случилось что-то серьезное?
— Но, мама…
— Я ждала тебя.
— Значит, ты все знаешь?
— Ничего я не знаю. Но когда стало известно, что объявлена война, у меня возникло предчувствие, что и тебя заберут в армию.
Я поспешил воспользоваться ситуацией и показал ей телеграмму господина де Сен-Нере. Мать молча прочитала, но, когда она вернула мне телеграмму, я увидел, что в ее глазах стоят слезы.
— Прости, дитя мое, мою нечаянную слабость. Я всего лишь женщина, а у женщин чувства проявляются не так, как у мужчин. Смысл моей жизни заключается в преданности тем, кого я люблю, ну а вы, мужчины, понимаете долг по-своему. Полагаю, что, если бы был жив твой отец, он бы одобрил твое решение, а значит, и я не могу сказать, что ты совершаешь ошибку. В тебе течет кровь солдата, а когда солдат слышит сигнал тревоги, он должен быть верен своему знамени. Я знаю, что по этому поводу думал твой отец, а ты его сын, и хоть он не воспитал тебя, все равно ты стал таким, каким он хотел тебя видеть. Не беспокойся и не расстраивайся из-за того, что я расчувствовалась, когда все поняла. Я твоя мать, и никогда не встану на пути твоего стремления исполнить свой долг.
Бедная моя мать, если бы она знала, сколь мало повлияло на мое решение чувство долга, и сколь мимолетны были мои мысли о родине! Но кто тому виной? Я принадлежу к такому поколению, которое никогда не воспитывалось в духе патриотизма, а ведь это благородное чувство не может внезапно, в один прекрасный день, зародиться в душе человека. Родину начинаешь любить, когда ей служишь. Точно так же обстоит дело и с землей: ее начинаешь любить, когда сам, своими руками, эту землю обрабатываешь. Но за все годы имперского правления французский народ попросту отвык "пахать" на благо своей страны. Он, словно беспечный землевладелец, сдал принадлежавший ему земельный надел в аренду, и заботило его все эти двадцать лет лишь одно: собственное благополучие. Отдавая свои голоса на выборах, люди словно выдавали расписки в том, что они все получили сполна, и даже дарованное французам всеобщее избирательное право так и не смогло вывести их из состояния глубокой апатии.
— Знаешь, — сказала мать после паузы, — пока не закончится эта война, я постоянно буду думать о том, что мой сын служит под началом благородного честного человека. Это придаст мне силы. Какое счастье, что полком твоего отца командует господин де Сен-Нере. Он полюбит тебя так же, как любил своего друга, твоего отца.
Мать вообще никогда не говорила о том, что ее беспокоило или причиняло страдания. Это было не в ее характере. До конца дня она больше не произнесла ни слова о моем скором отъезде. Чтобы отвлечься, она решила проконтролировать затеянные ею строительные работы и попросила меня проводить ее. Я отправился вместе с ней, и со стороны казалось, что мы просто вышли на прогулку и так же будем гулять завтра и во все последующие дни.
— Вот вернешься и увидишь, что у меня получилось, — говорила мать по пути.
Мы пересекли поле, засеянное овсом, и дошли до маленького домика, в котором уже давно никто не жил. Я с удивлением обнаружил, что в доме вовсю кипела работа. Целая бригада плотников поправляла старые деревянные конструкции. Я спросил у матери, не собирается ли она сдавать домик внаем.
— Нет, — сказала она, — я сама намерена здесь жить. Ведь ты, я надеюсь, в конце концов, вернешься в Куртижи и через несколько лет женишься. Тут-то мне и понадобится свой угол, куда я смогу перебраться. Нехорошо, когда две женщины живут под одной крышей. Я не