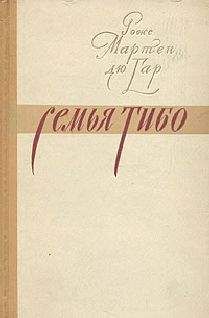Какая-то особая резкость в голосе Кирхенблата, его дерзкая улыбка рождали ощущение, что ему по собственному опыту известно, что значит иметь в руках хорошие карты и смело идти на риск.
XXIX. Пятница 24 июля. - Размышления г-жи де Фонтанен у гроба Жерома
Тело Жерома де Фонтанена положили в гроб рано утром, как это было принято в клинике; и тотчас же вслед за этим гроб был перенесен в глубь сада, в павильон, где администрация разрешала умершим больным дожидаться похорон, - как можно дальше от живых больных.
Госпожа де Фонтанен, почти не покидавшая комнаты мужа все то время, пока длилась его агония, обосновалась теперь в узком полуподвальном помещении, куда перенесли тело. Она была одна. Женни только что вышла: мать поручила ей сходить на улицу Обсерватории за траурной одеждой, которая понадобится им обеим для завтрашней церемонии; и Даниэль, проводивший сестру до калитки, задержался в саду, чтобы выкурить папиросу.
Сидя в тени на соломенном стуле под окошечком, освещавшим подвал, г-жа де Фонтанен готовилась провести здесь последний день. Глаза ее были устремлены на гроб, ничем пока не украшенный и установленный на черных козлах посреди комнаты. О личности покойного говорил теперь лишь один внешний признак - медная дощечка с выгравированной на ней надписью:
ЖЕРОМ-ЭЛИ ДЕ ФОНТАНЕН
11 МАЯ 1857 г. - 23 ИЮЛЯ 1914 г.
Она чувствовала себя очень уверенной и спокойной: она была под покровом божиим. Кризис того, первого вечера, момент слабости, вполне извинительный, - ведь драма разразилась так внезапно, - теперь прошел; теперь в ее горе не было ни безрассудства, ни остроты. Она привыкла жить в доверчивом контакте с той Силой, которая регулирует Жизнь вселенной, с тем Всё, в котором каждому из нас предстоит когда-нибудь растворить свою эфемерную оболочку; и смерть не внушала ей никакого страха. Даже будучи молодой девушкой, она не испытала ужаса перед трупом своего отца; она ни на мгновение не усомнилась, что этот руководитель, которого она так чтила, останется духовно с нею даже после распада его физического облика; и действительно, она никогда не лишилась его поддержки, никогда, - на этой неделе она получила лишнее тому доказательство: этот пастырь не переставал принимать участие в ее интимной жизни, в ее борьбе, помогать ей при разрешении трудных вопросов, вдохновлять все решения, которые она принимала...
Точно так же и теперь она не могла воспринимать смерть Жерома как конец. Ничто не умирает: все видоизменяется, сменяются времена года. Перед этим гробом, навеки закрытым над бренной плотью, она ощущала мистическую экзальтацию, аналогичную тому чувству, которое овладевало ею каждую осень, когда она наблюдала в своем саду в Мезоне, как листья, распустившиеся у нее на глазах весной, теперь опадают один за другим в свой положенный час, и это опадание никак не отражается на стволе, живущем своими тайными силами, на стволе, где таятся жизненные соки, где неизменно пребывает жизненная Субстанция. Смерть оставалась в ее глазах проявлением жизни, и созерцать без всякого ужаса это неизбежное возвращение в лоно матери-земли значило для нее смиренно приобщаться к всемогуществу божию.
В помещении было прохладно, как в недрах гробницы, здесь носился нежный, немного приторный запах роз, которые Женни положила на крышку гроба. Г-жа де Фонтанен машинально терла ногти на пальцах правой руки о левую ладонь. (Она привыкла каждое утро, закончив свой туалет, присаживаться на несколько минут к окну и, полируя себе ногти, предаваться на пороге нового дня краткому размышлению, которое она называла своей утренней молитвой; эта привычка создала у нее рефлекс - полировка ногтей и обращение к Духу божьему находились в некоей неразрывной связи.)
Пока Жером был жив, хотя он и находился далеко от нее, она втайне хранила надежду, что ее великая, испытанная любовь к нему обретет когда-нибудь свою земную награду, что когда-нибудь Жером вернется к ней остепенившийся и полный раскаяния и что, может быть, им обоим будет дано закончить свои дни друг подле друга, в забвении прошлого. Несбыточность этой надежды она осознала лишь в тот час, когда ей пришлось навсегда отказаться от нее. Все же память о перенесенных страданиях была еще слишком жива, и она ощущала некоторое облегчение при мысли, что теперь навсегда избавлена от подобных испытаний. Благодаря этой смерти иссяк единственный источник горечи, который в течение стольких лет отравлял ей существование. Она как бы невольно распрямила спину после долгого рабства. И, сама о том не подозревая, она наслаждалась этим чувством, таким человеческим и законным. Она была бы очень смущена, если бы это дошло до ее сознания. Но ослепление веры мешало ей бросить в глубины своей совести подлинно проницательный взгляд. Она приписывала духовной благодати то, что было следствием одного лишь инстинктивного эгоизма; она благодарила бога за то, что он даровал ей покорность судьбе и умиротворенность сердца, и без угрызений отдавалась этому приятному облегчению.
Сегодня она отдавалась этому чувству с особенной полнотой, потому, что день бдения над телом мужа был для нее только передышкой перед целым рядом дней, которые будут полны утомительных хлопот и борьбы: завтра, в субботу, похороны, возвращение домой, отъезд Даниэля. Затем, с воскресенья, начнется для нее тягостное, но неотложное занятие: надо спасать от бесчестия имя ее детей, надо поехать в Триест, в Вену и там, на месте, выяснить все дела мужа. Она еще не предупредила об этом ни Женни, ни Даниэля. Предвидя возражения со стороны сына, она предпочитала отсрочить бесполезный спор, ибо решение было ею принято. План действий был внушен ей Высшей силой. В этом не могло быть сомнений: ведь при мысли о своем смелом плане она ощущала в себе какое-то душевное возбуждение, которое было ей так хорошо знакомо, какой-то сверхъестественный властный порыв, свидетельствующий о том, что тут замешана божественная воля... В воскресенье, если представится возможность, самое позднее - в понедельник она отправится в Австрию, останется там две, если нужно будет, три недели; потребует свидания с судебным следователем, лично переговорит с руководителями обанкротившегося предприятия... Она не сомневалась в успехе: только бы поехать туда, действовать лично, оказывать на все прямое влияние. (В этом ее инстинкт не обманывался: уже не раз при трудных обстоятельствах она могла убедиться в своей силе. Но, разумеется, ей и в голову не приходило приписать эту силу своему личному обаянию: она видела в ней лишь чудесное вмешательство божества, через нее излучался божественный промысел.)
В Вене ей предстояло также предпринять один щекотливый шаг: ей хотелось познакомиться с этой Вильгельминой, чьи наивные и нежные письма, показавшиеся ей трогательными, она нашла в чемоданах Жерома...
Только закрыв Жерому глаза, она решилась разобрать его багаж. Она решилась на это прошлой ночью, выбрав час, когда наверняка сможет остаться одна, чтобы до конца охранить от детей тайны их отца.
Больше всего времени ушло на то, чтобы собрать бумаги: они были беспорядочно рассованы среди вещей. В течение целого часа она прикасалась своими руками к интимным вещам, роскошным и жалким, которые Жером оставил после себя, словно обломки крушения: к поношенному шелковому белью, костюмам от хороших портных, тоже истертым до нитки, но еще издававшим приятный, чуть-чуть кисловатый запах - лаванды, индийского нарда и лимона, - которому Жером оставался верен вот уже тридцать лет и который волновал ее, как ощущение его ласки... Неоплаченные счета валялись даже в ящике для обуви, даже в туалетном несессере: старые описи сумм, подлежащих уплате банкам, кондитерским, обувным и цветочным магазинам, ювелирам, врачам, счета на непредвиденные расходы - от китайца-педикюрщика с Нью-Бондстрит, от сафьянщика с улицы Мира за несессер с позолотой, за который так и не было заплачено. Квитанция триестского ломбарда на заложенные за смехотворно ничтожную сумму жемчужную булавку для галстука и пальто на меху с воротником из выдры. В бумажнике с графской короной фотографии г-жи де Фонтанен, Даниэля и Женни мирно соседствовали с фотографическими карточками, подписанными какой-то венской певичкой. Наконец, среди немецких книжонок с эротическими иллюстрациями г-жа де Фонтанен с удивлением обнаружила карманную Библию на тонкой бумаге, сильно потрепанную... Она хотела помнить только об этой маленькой Библии... Сколько раз во время душераздирающих "объяснений" Жером, стараясь всячески оправдать свое безобразное поведение, восклицал: "Вы слишком строго судите меня, друг мой... Я не так уж плох, как вы думаете!" Это была правда! Один лишь бог ведает тайну человеческой души, только ему известно, какими извилистыми путями и ради каких необходимых целей создания божьи движутся к совершенству...