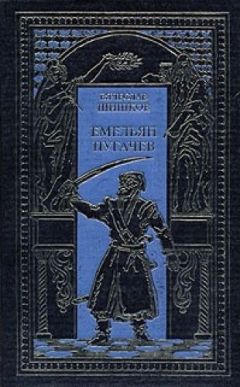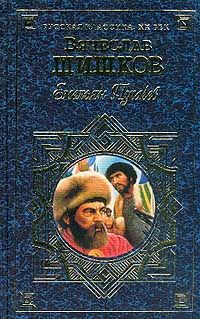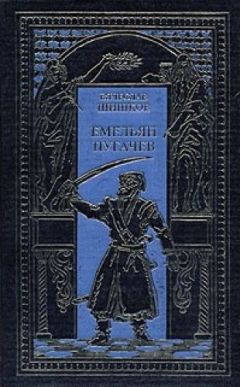Мастера и рабочие, приостановив дело, внимали красноречью архитектора, разинув рты. Архитектор кусал губы, хмурился. Амвросий сказал:
— Чаю, ваш преображенный Кремль затмит своим зраком и величественный римский собор Петра, и прославленную площадь Марка в Венеции. Осанна вам!
— О, если б сие осуществилось! Но нет, не чаю того: у меня, владыко, много завистников, много недругов в Питере, и что бы я ни задумал, чертежи расхвалят, да и отложат в сторонку: попроще надо, дорого, мол. Не везет мне, владыко… Великий неудачник я, — и вновь возле губ его резко прочертились складки.
…Пробил на башне час. Первый штоф быстро усыхал, захмелевший казак вышибал затычку из второго. Непьющий Герасим Степанов тихим голосом кончал рассказывать свою печальную историю.
— Вот что подлая душа, французишко де Вальс, с попущения графа Ягужинского, мог проделать надо мной, над скудородным русским. И не было мне со стороны закона ни толикого защищения… — Он вздохнул, покосился на клевавшего носом горбуна и закончил: — А еду я теперь простым приказчиком на его сиятельства графа Ягужинского заводы, на Урал.
— Ура-а! — закричал проснувшийся горбун-подьячий, потешный, жалкий, вскочил и брякнулся.
— Эх тебя… Приснилось? — пробрюзжал мясник Хряпов.
— Дай-дай-дай… — квакал горбун, подползая к штофу, гарусный колпак его съехал на левое ухо. — Дай пососать. Все пропил, все потерял… Супругу схоронил, потомки мои бросили меня, Господи помилуй, дыра-дело, дыра-дело… Нас два брата с Арбата, и оба горбаты. Ха! Погибаю, отцы. Измывались на службе всяко: били, заушали меня, водой поливали из ушата, эх… Ну, что ж из того… брал взятки, брал взятки… Тебе полтину, а начальству сотню… Начальник брюхо отпустил, я погиб… А нас таких пропоиц по Москве многие тысячи. А почему? Вздыху мелкому человеку нет, вздыху, вздыху. Кругом неправда, друг дружку поедом едят. В злости все… Немцы, баре, карантены… А чума валит, Господи помилуй. Дыра-дело, дыра-дело, Господи, прости, — он выпил, зачихал, закашлялся, пустил слюну, развалился на лужку и быстро захрапел.
— Пьянь горючая, — с досадой сказал мясник и тоже выпил. — Ха! Горе у него… Велико ли у него горе-то?.. Подумаешь… дела большие у него, четвертак в день жалованья получал. Тьфу! А у меня, Гарасим… Веришь ли, нет ли? — возвысил он голос, вытаращил озлившиеся глаза и стал теребить бороду. — Ежели у тебя, Гарасим, горе, так у меня вдвое. Ведь я поставщик двора был! Чуешь? Во как… Двора-а-а императорского! А теперя разорили меня всего, донага раздели, анафемы. А кто? Жулик один, наш же брат-савоська, из простых. Сначала он, тварь низкая, ограбил Апраксина, графа. Граф, изменник, взятку на войне взял от короля Фридриха, а его Барышников ограбил. Граф подох, а Барышников раздулся, в миллионах теперя… Меня разул, раздел, всех зорит, кто под руку ему подвернется… Откупщик! Соль откупил, водку откупил… Взятки пригоршнями швыряет… Все законы за него. За награбленное золото чины себе купил… Помещик теперя, вот он кто! Своих мужиков дерет на конюшне: на, мужик! На тебе, мужик! — Хряпов скрипел зубами, с маху бил кулаками в землю, ударял себя в грудь, рвал ворот рубахи — в раж вошел. — Мужика мне жалко истязуемого, натуру мужицкую! Я сам мужик, барина Ракитина крепостной, я своим скудным умишком капиталы нажил, а Барышников, аспид, разорил меня… Где, Гарасим, правда, где закон, где Бог?! Бей господишек!
Пьяненький, большеносый бородач-казак, отхлебнув из штофа, заморгал на мясника покрасневшими раскосыми глазами:
— Разорили тебя, говоришь? Ну и слава те Христу, паки человеком станешь.
— Дурак ты, войско яицкое, — сплюнул сквозь зубы Хряпов и отвернулся от казака. Затем вдруг вскочил с расшитого шерстями саквояжа и закричал на всю площадь: — Гарасим! Веришь ли? Обида, обида!.. Дом мой продали, баба с горя умерла, ребятишек по родне распихал, сам в великой нужде, вот наскреб остаточков тыщенки полторы, сюда прибыл, думал снова дело заводить здесь… А вот… эх, Гарасим! Веришь ли? Как поразмыслю, и не тянет уж больше ни к чему… Лютость во мне, Гарасим! Все печенки-селезенки горят. В разбойники пойду, в живорезы… Из купчишек, из гра-афьев пух пущу!.. Бей их, грабителей народных, бей! — Лохматый, захмелевший, он тряс бородой, махал кулаками, как в драке, красная рубаха из полурасстегнутых штанов вылезла. — Гарасим! Возьми меня, возьми к себе… Атаманом буду! — орал он, ударяя себя в грудь.
От Никольских ворот к ним пробирались вдоль кремлевской стены четверо стариков-солдат.
— Брось, брось, жители, буянить, — издали покрикивали они. — Неровен час, начальник какой… Заарестует… Сами знаете — карантены, чума. Ну, здоровы будьте. И мы к вам.
Мясник сразу утих, старики, кряхтя и охая, устало присели на лужок, блеклые глаза их дремали, седые косички потешно топорщились из-под войлочных шляп.
Один из них был бомбардир Павел Носов — давнишний старый друг молодого Емельяна Пугачева. Со времени их разлуки на Прусской войне прошел уже десяток лет, а Павел Носов мало изменился: такой же крепкий, закаленный, только погасли огоньки в глазах. Крепостной крестьянин, он своей долгой солдатчиной заслужил себе полную волю, ему бы можно на покой, но он так сроднился с военной жизнью, что упросил начальство оставить его послужить отечеству до смерти. Его направили на форпост на вольные оренбургские земли, да вот он, будучи в Москве, за чумным лихолетьем, задержался.
Корявый и курносый старик, которого товарищи звали Васькой, развязал на косичке порыжевший бант, привычными пальцами ловко расплел косу, вынул торчавшую в ней по казенному образцу лучинку, стал расчесывать медным гребнем длинные, как у женщины, волосы.
— А мы с караула, в Кремле стояли… А теперича поспать в холодке, жарко дюже… Эвот! У вас и винцо и баранки. Богато, хрещеные, живете… Дайте-ка нам хотя по бараночке. В брюхе-то пусто у нас… Восемь гривен на месяц жалованья огребаем — не зажируешь. А кругом дороговизна, ни к чему приступу нет. Вот помяните мое слово, голод будет, потому — чума.
— Не голод, а бунт… Усобица, — сказал бородач казак Кожин и сплюнул.
— Знамо дело, — подхватил старый солдат, беззубо давя деснами баранку. — Голод за собой и усобицу приведет. Жрать нечего, а выпить — душа горит.
— Слых был, врут ли, нет ли, — зашамкал беззубый семидесятилетний солдат Васька, — будто бы царь-государь Петр Федорыч оказал себя на Руси, в Полтавщине, что ли. Годов с пяток тому прошумела молва, да исчезнула… Врут, поди.
— Ничего не врут, — подхватил Павел Носов. — Петр Третий жив, правда-истина. В прошлом годе он где-то под Астраханью объявился, три солдата нашей батареи сказывали, они с офицером коней закупали тамака. По всему астраханскому краю вестно было: Петр Федорыч жив, он опять примет царство и станет льготить мужиков.
— Брешут, — убежденно сказал мясник, поднял штоф, взболтнул, пригубил, — Петр Федорыч померши, его погребения самовидцем был.
Горбун-подьячий ожил, открыл воспаленный левый глаз, жалобно проквакал:
— Петра Федорыча придушили, Иоанна Антоновича зарезали… Дыра-дело, дыра-дело. Грех им, душителям неправедным.
Архиепископ Амвросий сидел в рабочем кабинете Баженова. С потолка спускалась елизаветинских времен в наборных хрустальных бляхах люстра с восковыми розового цвета свечами. Вдоль стен резные, по рисункам хозяина, дубовые шкафы, шифоньерки, бюро. На стенах, обитых голубоватым штофом, два портрета кисти Антропова, несколько миниатюр Ротари и датского живописца Эрихсена. Дорогие ковры — дар графа Салтыкова. Письменный стол завален «Московскими ведомостями», брошюрами, книгами на русском и иноземных языках. Тут и «Эмиль» с первой частью «Исповеди» Руссо, запрещенные Екатериной, и старинный роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус», и устав Вольного экономического общества. Рулоны чертежей, кроки, эскизы, готовальни, заграничные краски в тюбиках…
Амвросий поник головой, насупясь, перебирал в смущении янтарные четки. Потом поднял взор на Баженова, проницательно посмотрел в его печальные, несколько рассеянные глаза и спросил, вздохнув:
— В то время вы, чаю, за границей были?
— Да, владыко, в Италии. И вскоре после убиения Иоанна Антоновича вернулся в Россию.
— Могу ли я вас спросить доверительно, по секрету, не доводилось ли вам, будучи за границей, читать отклики в иностранных изданиях о сем кровавом позорище русском?
— Разумеется, разумеется, владыко. Даже у меня сохранился изданный в Лондоне листок. — Баженов открыл полированный изящный секретер и, порывшись в бумагах, сказал: — Вот он: «Заметки путешественника на манифест от 17 авг. 1764 г.». Послушайте, владыко, выдержки: «Как ни была уже печальна судьба несчастного Ивана, ему не удалось избегнуть и последнего насилия со стороны нации, не охотно упускающей всякий случай проявить свое зверство». Ну, и так далее… А вот не угодно ли философическое умозаключение: «Одни и те же действия не всегда имеют одни и те же последствия. Родившиеся под различными созвездиями два изменника испытывают различную судьбу: один возведен в графы, кавалер многих орденов, сенатор („Это про Григория Орлова“, — пояснил Баженов), другому (Мировичу) отрублена голова и тело его сожжено вместе с эшафотом».