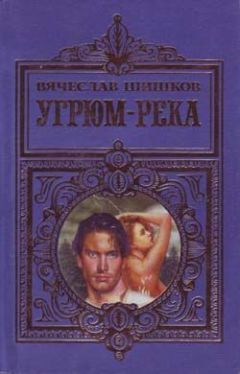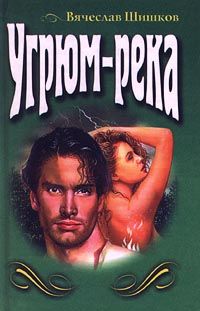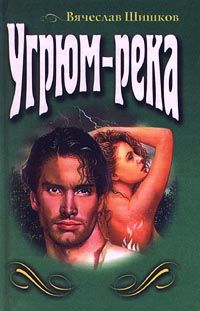Она закрывает глаза, прислушивается к себе. Возле нее – медведь, огромный, черный.
– Сейчас буду варить пельмени, – говорит медведь и вытаскивает из саней два тюричка. – А я как на реках Вавилонских, знаете. Тамо седохом и плакахом. Дым, жар... Аж борода трещит... Ох, ты!
Она не слышит, что говорит медведь. От медведя пахнет дымом и чем-то странным, но слово «пельмени» вызывает в ней обильную слюну. Она открывает глаза.
– Ферапонт Самойлыч, вы дивный.
– Дивны дела твоя, – по-церковному отвечает из зимовья медведь и, помедля, кричит: – Уварились!
Он берет ее на руки и вносит в зимовье. Звезды готовы рассказать свою тайну – «кто вы, что вы?» – но девы в санях нет, звезды рассказывают тайну лошадям. Лошади внимательно слушают, жуют овес.
В избушке горят две свечи. По земляному полу – хвои, на хвоях – ковер. Дева сбрасывает шубу. Дьякон преет в рясе. Пельмени с перцем, уксусом аппетитны, восхитительны. Дьякон жадно пьет водку и каждый раз сплевывает сквозь зубы в угол. Дева хохочет, тоже пьет и тоже пробует сплюнуть сквозь зубы, но это ей не удается; она вытирает подбородок надушенным платком.
– Вы, краса моя, откройте зубки щелочкой и этак язычком – цвык! Я горазд плевать сквозь зубы на девять шагов.
Дьякон восседает на сутунке, как на троне, и все-таки едва не упирается головою в потолок: он могуч, избушка низкоросла.
– Говори мне – ты, говори мне – ты, – кокетничает голосом начинающая хмелеть дева.
– Сану моему не подобает, извините вторично, – упирая на «о», гудит дьякон. – Окромя того, у меня дьяконица... Обретохом яко козу невелику...
Дева хохочет, припадает щекой к рясе Ферапонта, тот конфузливо отодвигается.
– Ах, простите вторично... Вы чуть-чуть опачкали щечку сажей... Дозвольте. – Он смачивает языком ладонь, проводит по девичьей щеке и насухо вытирает сырое место прокоптевшим рукавом. Щека девы покрывается густым слоем копоти. Дьякон готов провалиться сквозь землю, но, скрывая свою неловкость, говорит с хитринкой:
– Вот и побелели, душа моя. Даже совсем чистенькая, как из баньки.
– Ты не Ферапонт... Ты дьякон Ахилла. Лескова читал? Знаешь?
– Лесков? Знаю. Петруха Лесков, как же! Первый пьяница у нас на Урале был.
Она взвизгивает от смеха и норовит обнять необъятную талию дьякона. Тот не сопротивляется, вздыхает: «Охо-хо» и говорит:
– Греховодница ты, девка.
– Ты любишь жену?
– Известное дело. А как иначе?
– Злой, злой, злой!.. Нехороший ты... – Она стучит кулачком по его тугому колену, кулачок покрывается сажей, а сердце мрет.
– Караул! Пропал я... – вскочил дьякон и крепко ударился головой в потолок. Как черный снег полетели хлопья копоти. – Берендей! Спектакль! Снегурочка!.. Ой, погибла моя башка!
Дева от задорного, разжигающего смеха вся распласталась на ковре.
– Ферапонт!.. Нет, вы прекрасны... Ха-ха-ха! А я нарочно... Я знала... Иди сюда, сядь. Там и без тебя сыграют.
...Берендея пришлось играть басу церковного хора Чистякову. Он пьяница, но знал ноты хорошо. В накладном седоволосом парике и бородище, увенчанный короной, в белой мантии, он сидел на троне, держал в руках выписки клавира и в диалоге со Снегурочкой помаленьку подвирал. Но хороший аккомпанемент рояля и великолепная Снегурочка спасали дело.
В передних рядах была, во главе с Протасовым, вся знать. Прохор сидел за кулисами, пил коньяк, любезничал с девчонками, отпускал словечки по адресу доморощенных артисток. Рабочие с наслаждением не отрывали от сцены возбужденных глаз. Правда, кой-кто подремывал, кой-кто храпел, а пьяный, затесавшийся в задние ряды золотоискатель Ванька Серенький даже закричал:
– Жулики!.. Нет, вы лучше плату нам прибавьте!
Но его быстро выволокли на свежий воздух.
Купава – Нина внимательно шарила взглядом по рядам, вплоть до галерки, – ее подруги не было.
– А где же Кэтти?
Кэтти утешала неутешно скорбящего дьякона. Оплошавший Ферапонт лежал рядом с нею вниз животом, закрыв ладонями лицо. Голова великана упиралась в угол, а пятки в каменку. Плечи его вздрагивали. Кэтти показалось, что он плачет.
– Рыцарь мой!.. Дон Жуан... Д'Артаньян... Ахилла, – тормошила она ниц поверженного дьякона. – Не плачь... Что с тобой?..
– Оставь, оставь, живот у меня схватило. Режет, аки ножами булатными.
– Ах, бедненький!.. Атосик мой... Портосик мой...
Дева хохочет, дева тянет из фляжки крепкую, на спирту, наливку.
– Пей!.. Рыцарь мой...
Дьякон, выпростав из-под скамейки голову, пьет наливку, крякает, пьет водку. Свечи догорают, кругом колдовские бродят тени. Слабый звук бубенцов, колокольчик трижды взбрякал – должно быть, лихой тройке наскучило стоять. А в мыслях полуобнаженной девы эти звуки как сладостный соблазн. Вот славные рыцари будто бы проносятся вольной кавалькадой; латы их звенят, бряцают шпаги...
И там, зеленою тайгою, тоже мчится черный всадник... Ближе, ближе. Кони храпят и пляшут, храпит дьякон Ферапонт.
А витязь на крылатом скакуне вдруг – стоп! – припал на одно колено и почтительно преподносит ей букет из белых роз. «Миледи, миледи, – шепчет он и целует ее губы. – Мое сердце, миледи, у ваших ног».
– Милый, – замирает Кэтти, по ее лицу, по телу пробегают волны страсти, она улыбается закрытыми глазами и жарко обнимает Ферапонта. – Ну, целуй же меня, целуй!
Невменяемо пьяный дьякон бьет пяткой в каменку, взлягивает к потолку ногами и бормочет:
– Оставь, оставь, дщерь погибели! Мне сан не дозволяет.
Дева всплескивает руками, дева обильно плачет, пробует встать, но хмель опрокидывает ее.
Весь мир колышется, плывет, голова отделяется от тела, в голове жуть, хаос, сплошные какие-то огни и взмахи; и сердце на качелях – вверх-вниз, вверх-вниз. Деву охватывает жар, страх, смерть. Сейчас конец. Все кувыркается, скачет, гудит. Сильная тошнота терзает деву.
– Мучитель мой, милый мой Ахилла... Ты все... ты всю... Да если б я... Дурак!.. Ведь это ж каприз... Мой каприз... Да, может быть, я семь лет тому... ребенка родила!..
– Сказывай, девушка, сказывай... Сказывай, слушаю, сказывай... – гудит заросшая тайгой басистая пасть Берендея.
...Филька Шкворень слушал, Прохор сказывал:
– Подлец ты, из подлецов подлец. Я знаю, как ты при всем народе срамил меня. Так кровосос я? Изверг я? А? Что ж, тебя в острог, мерзавца? Тюрьмой тебя не запугаешь. Волка натравить, чтоб глотку перегрыз тебе. Тьфу, черт шершавый!.. Что ж мне с тобой делать-то? А я тебя, признаться, хотел в люди вывести... Поверил дураку. Никакой, брат, в тебе чести нет.
Верзилу от волнения мучило удушье. Он глубоко дышал, втягивая темно-желтые щеки. Потом поднял на Прохора острые с вывернутыми веками глаза и ударил кулачищем в грудь:
– Прохор Петров!.. Поверишь ли?.. Эх, язви тя!.. Накладывай, как поп, какую хошь питимью, все сполню и не крякну. Да оторвись моя башка с плеч, ежели я...
– Поймай цыгана. Знаешь? Того самого. И доставь сюда..
– Есть!.. Пымаю.
Впрочем, этот разговор происходил давно, вскоре же по приезде Прохора из Питера.
...А сейчас глубокое ночное время – сейчас в доме Громовых самый разгар бала – после «Снегурочки» и доморощенного концерта. Съезд начался в одиннадцать часов. Гремела музыка, крутились танцующие пары, сновали по всем комнатам маскированные, у столов – а-ля фуршет, хватай, на что глаза глядят, – всем весело, всем не до сна, а Кэтти спит, не улыбнется.
Ферапонту снится страшное: будто сам владыка-архиерей мчит на тройке, ищет, не находит дьякона, повелевает: «Властию, мне данною, немедленно расстричь его, лишить сана, обрить полбашки, предать анафеме».
А за владыкой – черный с провалившимся носом всадник. Кто-то переводит стрелку с ночного времени на утро. Безносый черный всадник проскакал и раз и два. И вслед ему чертова собачка весело протявкала: «гам, гам, гам!»
Лай, собачка, лай! Ночь линяет, гаснет. Брякает бубенцами тройка, не стоит.
А как выросла над тайгой весенняя заря, бал кончился, насыщенные вином и снедью гости разбредались, – Кэтти открыла полусонные глаза. В избушке холод. Дьякон Ферапонт храпит с прихлюпкой, сквозь дверные щели льет голубеющий рассвет. Кэтти вздрогнула, быстро надела беличью шубку, отыскала в сумке зеркальце, вышла на волю, ахнула – возле избушки пустые сани.
– Лошади! Где лошади? Дьякон, да проснитесь же!!
Кэтти беспомощно заплакала: ей больно, горько и обидно.
Так прошла эта лихая ночь. Бродяга-месяц давно закатился в преисподнюю ночлежку на покой. Над миром вечнозеленых лесов блистало солнце.
Медленно раскачиваясь, время двигалось вперед, дороги портились, Нина Яковлевна собиралась в отъезд. Прохор о разлуке с женой нимало не грустил, но стал с ней подчеркнуто вежлив и внимателен. Нина по-своему расценивала перемену в нем, она старалась удерживать фальшивые чувства мужа на почтительной от себя дистанции.
Уныло перезванивали великопостные колокола. После шумной гульбы на масленой для рабочих настал теперь великий пост. По приказу Прохора цены во всех его лавках и лабазах привскочили, а ничтожный заработок – в среднем до сорока рублей в месяц – оставался прежний. Шел скрытый в народе ропот.