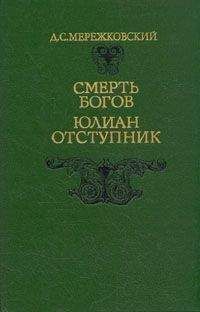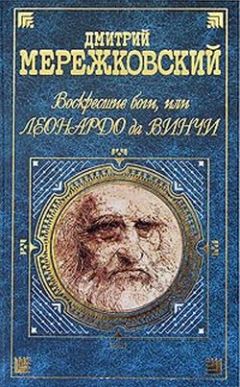Выбрали место на одном из пригорков, сняли с себя клетки, поставили их на землю, и Леонардо начал выпускать птиц на свободу.
Это была его любимая с детства забава. Между тем как они улетали с радостным трепетанием и шелестом крыльев, провожал он их ласковым взором. Лицо его озарилось тихою улыбкою. В эту минуту, забыв все свои горести, казался он счастливым, как ребенок.
В клетках оставался только охотничий ястреб и дикий лебедь; учитель берег их напоследок.
Присел отдохнуть и вынул из дорожной сумки сверток со скромным ужином – хлебом, печеными каштанами, сухими винными ягодами, фляжку красного орвьетского вина в соломенной плетенке и два рода сыра: козий для себя, сливочный для спутника; зная, что Франческо не любит козьего, нарочно взял для него сливочного.
Учитель пригласил ученика разделить с ним трапезу и начал закусывать, с удовольствием поглядывая на птиц, которые в клетках, предчувствуя свободу, бились крыльями: такими маленькими пиршествами в поле под открытым небом любил он праздновать освобождение крылатых пленниц.
Они ели молча. Франческо взглядывал на него изредка, украдкою. В первый раз после болезни видел он лицо Леонардо в ярком свете дня, на воздухе, и никогда еще оно ему не казалось таким утомленным и старым. Волосы, уже седеющие, с желтоватым отливом сквозь седину, поредевшие сверху, обнажали крутой, огромный лоб, изрытый упрямыми, суровыми морщинами, а книзу – все еще густые, пышные – сливались с начинавшейся под самыми скулами, длинною, до середины груди, тоже седеющею, волнистою бородою. Бледно-голубые глаза из глубоких темных впадин под густыми, нависшими бровями глядели с прежнею зоркостью, бесстрашною пытливостью. Но этому выражению как бы сверхчеловеческой силы мысли, воли познания противоречило выражение человеческой слабости, смертельной усталости в болезненных складках ввалившихся щек, в тяжелых старческих мешках под глазами, в немного выдававшейся нижней губе и углах тонкого рта, опущенных с презрительною горечью, с неизъяснимою брезгливостью: это было лицо покорившегося, старого, почти дряхлого титана Прометея.
Франческо смотрел на него, и знакомое чувство жалости овладевало им.
Он заметил, что порой достаточно ничтожной мелочи, чтобы выражение человеческих лиц мгновенно изменилось и открыло неведомую глубину свою: так, во время дороги, когда спутники, ему неизвестные и безразличные, вынимали узелок или сверточек с домашними припасами, садились в стороне и закусывали, немного отвернувшись, с тою стыдливостью, которая свойственна людям за едою, в месте непривычном, среди незнакомых, – вдруг, без всякого повода, начинал он испытывать к ним непонятную, странную жалость: они казались ему одинокими и несчастными. Особенно часто бывало это в детстве, но и потом возвращалось. Ничем не сумел бы он объяснить этой жалости, корни которой были глубже сознания. Он почти не думал о ней, но когда она приходила, тотчас узнавал ее и не мог ей противиться.
Так теперь, наблюдая, как учитель, сидя на траве, среди пустых клеток, и поглядывая на оставшихся птиц, режет старым складным ножом со сломанною костяною ручкою хлеб и тонкие ломтики сыру, кладет их в рот и тщательно, с усилием жует, как жуют старики ослабевшими деснами, так что кожа на скулах движется, – он почувствовал вдруг, что в сердце его подымается эта знакомая жгучая жалость. И она была еще невыносимее, потому что соединялась с благоговением. Ему хотелось упасть к ногам Леонардо, обнять их, рыдая, сказать ему, что, если он отвержен и презрен людьми, то в этом бесславии все-таки больше славы, чем в торжестве Рафаэля и Микеланджело.
Но он не сделал этого – не посмел и продолжал смотреть на учителя молча, удерживая слезы, которые сжимали ему горло, и с трудом глотая кусочки сливочного сыра и хлеба.
Окончив ужин, Леонардо встал, выпустил ястреба, потом открыл последнюю, самую большую клетку с лебедем.
Огромная белая птица выпорхнула, шумно и радостно взмахнула порозовевшими в лучах заката крыльями и полетела прямо к солнцу.
Леонардо следил за нею долгим взором, полным бесконечною скорбью и завистью.
Франческо понял, что эта скорбь учителя – о мечте всей жизни его, о человеческих крыльях, о «Великой Птице», которую некогда предсказывал он в дневнике своем: «Человек предпримет свой первый полет на спине огромного Лебедя».
Папа, уступая просьбам брата своего, Джулиано Медичи, заказал Леонардо небольшую картину.
По обыкновению, мешкая и со дня на день откладывая начало работы, художник занялся предварительными опытами, усовершенствованием красок, изобретением нового лака для будущей картины.
Узнав об этом, Лев x воскликнул с притворным отчаянием:
– Этот чудак никогда ничего не сделает, ибо думает о конце, не приступая к началу!
Придворные подхватили шутку и разнесли ее по городу. Участь Леонардо была решена. Лев X, величайший знаток и ценитель искусства, произнес над ним приговор: отныне Пьетро Бембо и Рафаэль, карлик Барабалло и Микеланджело могли спокойно почивать на лаврах: соперник их был уничтожен.
И все сразу, точно сговорившись, отвернулись от него: забыли о нем, как забывают о мертвых. Но отзыв папы все-таки передали. Леонардо выслушал его так равнодушно, как будто давно предвидел и ничего иного не ожидал.
В тот же день ночью, оставшись один, писал он в дневнике своем:
«Терпение для оскорбляемых то же, что платье для зябнущих. По мере того, как холод усиливается, одевайся теплее и ты не почувствуешь холода. Точно так же во время великих обид умножай терпение – и обида не коснется души твоей».
1 января 1515 года скончался король Франции, Людовик XII. Так как сыновей у него не было, ему наследовал ближайший родственник, муж дочери его, Клод де Франс, сын Луизы Савойской, герцог Ангулемский, Франсуа де Валуа, под именем Франциска I.
Тотчас по восшествии на престол юный король предпринял поход для отвоевания Ломбардии; с неимоверною быстротою перевалил через Альпы, прошел сквозь теснины д'Аржантьер, внезапно явился в Италии, одержал победу при Мариньяно, низложил Моретто и вступил в Милан триумфатором.
В это время Джулиано Медичи уехал в Савойю. Видя, что в Риме делать ему нечего, Леонардо решил искать счастья у нового государя и осенью того же года травился в Павию, ко двору Франциска I. Здесь побежденные давали праздники в честь победителей. К устройству их приглашен был Леонардо в качестве механика, по старой памяти, сохранившейся о нем в Ломбардии со времени Моро.
Он устроил самодвижущегося льва: лев этот на одном из праздников прошел всю залу, остановился перед королем, встал на задние лапы и открыл свою грудь, из которой посыпались к ногам его величества белые лилии Франции.
Игрушка эта послужила славе Леонардо более, чем все его остальные произведения, изобретения и открытия.
Франциск и приглашал к себе на службу итальянских ученых и художников. Рафаэля и Микеланджело папа не отпускал. Король пригласил Леонардо, предложив ему 300 экю годового жалованья и маленький замок под Клу в Турене, близ города Амбуаза, между Туром и Блуа. Художник согласился и на шестьдесят четвертом году жизни, вечный изгнанник, без надежды и без сожаления покидая родину, со старым слугою Вилланисом, служанкою Матуриною, Франческо Мельчи и Зороастро да Перетола в начале 1516 года выехал из Милана во Францию. Дорога, особенно в это время года, была трудная – через Пьемонт на Турин, долиной притока По, Дориа-Рипария, потом сквозь горный проход Коль-де-Фрейус на перевал между Мон-Табором и Мон-Сенисом.
Из местечка Бордонеккиа выехали ранним, еще темным утром, чтобы добраться до перевала засветло.
Верховые и вьючные мулы, стуча копытами и позвякивая бубенчиками, взбирались узкою тропинкою по краю пропасти.
Внизу, в долинах, обращенных к полдню, уже пахло весною, а на высоте была еще зима. Но в сухом и редком безветренном воздухе холод был мало чувствителен. Утро чуть брезжило. В пропастях, где призрачно белели, как сталактиты, струи замерзших водопадов, и черные верхушки елей по ребрам стремнин торчали из-под снега шершавою щетиною, – лежали тени ночи. А вверху, на бледном небе, снежные громады Альп уже яснели, как будто изнутри освещенные.
На одном из поворотов Леонардо спешился: ему хотелось поближе взглянуть на горы. Узнав от проводников, что боковая пешеходная тропинка, еще более узкая и трудная, ведет к тому же месту, как и проезжая для мулов, он стал взбираться вместе с Франческо на соседнюю кручу, откуда видны были горы.
Когда умолкли бубенчики, сделалось так тихо, как бывает только на самых высоких горах. Путникам слышались удары собственного сердца да изредка протяжный гул обвала, подобный гулу грома, повторяемый многоголосыми откликами.
Они карабкались все выше и выше.
Леонардо опирался на руку Франческо. – И вспомнилось ученику, как много лет назад, в селении Манделло, у подножия горы Кампионе, вдвоем спускались они в железный рудник по скользкой страшной лестнице в подземную бездну: тогда Леонардо нес его на руках своих; теперь Франческо поддерживал учителя. И там, под землею, было так же тихо, как здесь, на высоте.