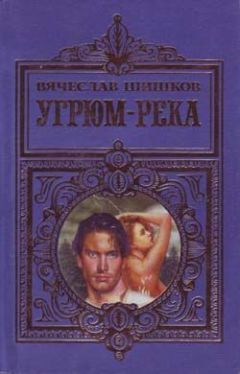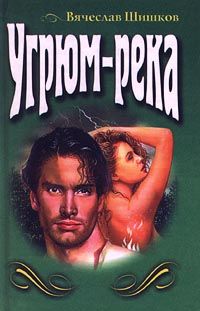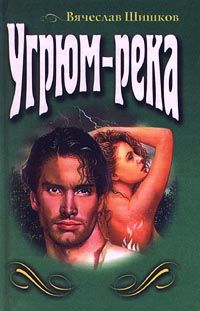– Любишь?
Наденька заплакала пуще, засмеялась, вся посунулась к Прохору, как к магниту сталь. Но волк оскалил зубы.
– Кто цыган?
– Не спрашивай. Не спрашивай... – шептала она, всплеснув руками. – Ведь он меня зарежет... Я вся в синяках... Спаси меня, миленький...
– Пей!
Через силу, вся замерев, вся содрогнувшись, Наденька отчаянно вонзила в себя вторую рюмку отравы, сморщилась, сплюнула, затрясла головой, и ноги ее подсеклись.
– Ми-лый!..
Прохор, прикасаясь к ней с гадливостью, провел ее к дивану, подошел к закрытой двери, с силой ударил в нее сапогом:
– Федор, иди.
Пристав гордо вышел в парадной форме с медалями, с крестом: гарантия, что Прохор не рискнет «оскорбить мундир».
– Чем могу служить?
– Ничем... Ты мне вообще служить не можешь... – задыхаясь внутренним гневом, раздельно сказал Прохор. Он дрожал, хватался руками за воздух. Он грузно сел.
Пристав стоял у печки; выражение его лица удрученное, злое. Весь вспружиненный, он приготовился к кровавой схватке.
Прохор смотрел на него с ненавистью и минуты две не мог произнести ни слова. Сильный Прохор, непобедимый Прохор – перед ним все трепещут – силою обстоятельств давно порабощен этим человеком. Иметь всю власть, всю мощь, все богатство – и быть под сапогом у мрази!
Прохор едва овладел собой, чтоб не разреветься злобным плачем. Прохор с маху ударил кулаком в стол, заскрипел зубами и – еще момент – он бы бросился на пристава. Страшные глаза его, которых боялся даже волк, заставили пристава придвинуться ближе к двери.
– Нас никто не слышит. Наденька сама себя отравила, – глухим, каким-то рычащим голосом начал Прохор. – Я хотел тебе сказать, что так жить нельзя. Я больше не могу. Я мучаюсь, понимаешь, мучаюсь. На ногах моих гири. На сердце камень, на камне – твоя нога. Нам здесь вдвоем не жить. Или ты, или я. Знай, если будешь упрямиться, я тебя уничтожу.
– Нельзя ли без угроз, мой милый, – махнул пристав по усам и, звякнув шпорами, важно сел в кресло. – Я не тебе служу, а служу главным образом государю императору. – И пристав, надув толстые щеки, выпустил целую охапку воздуха.
Прохор издевательски захохотал:
– Подлец, фальшивомонетчик, разбойник при большой дороге – не слуга царю.
– Что, что?! – стукнул пристав шашкой в пол, и бычьи глаза его страшно завертелись.
– Давай говорить спокойно. Не ори, – сказал Прохор. – Я прекрасно понимаю и тебе советую понять, что еще недавно ты при желании мог бы погубить меня. Но теперь, когда я узнал, кто ты, не ты меня, а я тебя погублю.
– Не так-то скоро... Ха-ха!..
– В три дня!! – грохнул кулаком Прохор. Волк вскочил.
Пристав захохотал испуганно, сказал:
– Чудак, барин!
Наденька стонала и поплевывалась во сне. Часы захрипели и пробили два ночи. Вьюга с визгом облизывала окна.
– За организованное нападение на караван золота с убийством шести казаков тебя ждет петля.
– Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли... Ведь подобное предположение можно делать только в белой горячке... Чтоб я... слуга государя... Ха-ха-ха!..
Прохор задымил сигарой и сказал:
– Тысяча, которую ты дал Парчевскому, фальшивая. Он в городишке продул ее в карты. Городскими властями составлен протокол. В моих лавках и в конторе обнаружено много фальшивых денег. Я несу убытки. Фальшивые деньги делаешь ты в Чертовой хате на скале. Ты – цыган. Твой парик, шпора и Наденькин коньяк у меня. Филька Шкворень и два казака крепко тебя заприметили там, на деле: твои усы и твое брюхо. И морду, конечно... Извини... А главное – твой соратник, безносый спиртонос с собачкой, пойман и во всем сознался. Обо всем этом, ежели занадобится, я через три дня телеграфирую губернатору. Ежели занадобится, повторяю...
Пристав схватился за виски и на подгибающихся ногах стал ходить по комнате. Шпоры пристава позвякивали жалобно, как бы прося пощады. Грудь распиралась подавленным пыхтеньем, отчаянными вздохами, все мысли в голове померкли. Сердце Прохора облилось радостной кровью.
– Уфф!.. – выдохнул пристав и повалился на колени к дивану Наденьки. Он уткнулся головой ей в грудь и дряблым, как жвачка, голоском взывал:
– Надюша!.. Надя!.. Встань. Меня губит близкий друг... Близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок... О, проклятие!..
– Слушай, – встал Прохор и оперся руками о стол. – Нельзя ли без фокусов и без душераздирающих монологов. Меня этим не возьмешь, я не институтка, я не младенец двух лет по третьему... Ты говоришь: друг? Ладно. Спасибо. Слушай внимательно...
Пристав, стоя на коленях все в той же позе, спиной к Прохору, вынул платок, стал вытирать лицо, тихо посмаркиваться.
– За всю мою жизнь... Ты слышишь? Я тебе переплатил больше пятидесяти тысяч рублей. Я считаю, что этой суммы совершенно довольно, чтоб выкупить те документы против меня, которые у тебя в руках. Итак, я жду от тебя документов.
Пристав так порывисто вскочил, что опрокинул преддиванный стол с фарфоровой вазой, обернулся к Прохору и, потряхивая кулаками, истерически закричал-затопал:
– Нет у меня документов! Не дам!! Не дам!! И ты врешь, что спиртонос пойман...
– Не дашь?
– Не дам! Я лучше сожру их, как сожрал твой документик Иннокентий Груздев.
– Не дашь?
– Не дам... Они у меня в губернском городе, в сохранном месте...
– Покажи твою железную шкатулку...
– Фига!.. Обыск?
– Не дашь? В последний раз...
– Не дам.
– Тогда прощай.
Прохор взял цепочку волка и пошел с ним к двери. Обернулся. И холодным голосом проговорил:
– Итак, сроку тебе – три дня! Самое лучшее, если ты пустишь себе пулю в лоб. Мой дружеский совет – стреляйся.
В дом Громовых, за четыре дня до отъезда Нины, пришли ранним утром два инженера: Андрей Андреевич Протасов и Николай Николаевич Новиков, седоусый, лысый, – представитель государственного горного надзора. Он не так давно прибыл с ревизией из губернского города.
Шустрая Настя, снимая с Протасова пальто, сказала:
– Прохор Петрович очень даже расстроены. Не знаю, примут ли.
Подошли к кабинету. За плотно закрытой дубовой дверью – тяжелые шаги и грубое хозяйское покашливание. Инженеры постояли, посоветовались, входить или нет.
– Давайте отложим на завтра, – предложил Новиков. Будучи человеком самостоятельным, почти не подчиненным Громову, он не то чтобы побаивался Прохора Петровича, но в его присутствии всегда чувствовал некоторую неловкость. В разговоре с Прохором, как это не раз случалось, легко можно было нарваться на резкий купеческий окрик, на запальчивый жест.
У Протасова заалели кончики ушей, и воротник форменной тужурки стал тесен. Протасов крепко постучал в дверь:
– Прохор Петрович, по делу.
– Войдите!
Высокий, широкоплечий, чуть согнувшийся, Прохор стоял у стола. После объяснения с приставом он всю ночь не спал. Лицо желтое, под глазами мешки.
– Что нужно?
Протасов демонстративно сел без приглашения и с самоуверенным видом закурил папироску. Новиков стоял. Прохор, кряхтя, как старик, опустился в кресло.
– Садитесь, Николай Николаевич. – И Протасов придвинул Новикову стул.
Прохор откинул назад чуб и выжидательно прищурился.
– Мы к вам по делу, – сказал Протасов, открыл портфель, заглянул в него и вновь закрыл. – Наш разговор с вами, Прохор Петрович, довольно продолжительный и, может быть, не совсем для вас приятный.
Ноги Прохора задвигались под столом; он поднял правую бровь и насторожился.
– Дело в том, что мы с Андреем Андреевичем, – начал было инженер Новиков, но Прохор сразу перебил его:
– Уж кто-нибудь один говорите... Не могу же я...
– Николай Николаевич, – в свою очередь перебил Протасов Прохора. – Прошу вас, излагайте...
Прохор приподнялся, подогнул левую ногу, сел на нее.
– Ну-с?
Низенький, сутулый, со втянутой в плечи головой, инженер Новиков оседлал нос большими старинными очками и вынул из портфеля бумагу:
– Вот инструкция... Инструкция, как вам известно, составленная горным департаментом и высочайше утвержденная...
– Ну, знаю... Только не тяните, пожалуйста, мне некогда.
– Простите, Прохор Петрович, – двинулся на стуле Протасов. – Разговор, по поводу которого мы вас беспокоим, в сто раз важнее всех дел, даже дел, не терпящих отлагательства.
– Я, как представитель государственного надзора, – подхватил Новиков, – к сожалению, нахожу, что инструкция эта, ограждающая интересы рабочих, не во всех пунктах вами исполняется.
– Например?
– Для того чтоб иллюстрировать примерами, – сказал Протасов, – надо вал проследовать с нами на место работ.
Всю дальнюю дорогу до прииска «Нового» Прохор был погружен в тяжелые думы. Неустойчивое душевное равновесие ввергало его мысли в какой-то холодный мрак. Он томился сейчас о поддержке извне, но такой поддержки не было. Между ним и Ниной все темней и темней становился слой внутренних противоречий. Да и к тому же Нина вот-вот уедет, тогда Прохор Петрович остается наедине с собой. И это предстоящее одиночество тревожило его.