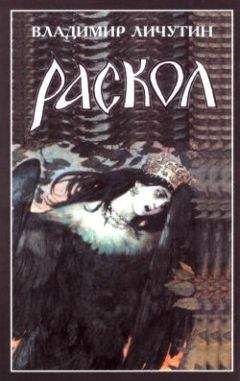«Эй, изменщик, сукин ты сын… Чего шастаешь, бродня, яко тать в нощи? Все зыришь, вор, кабы чего спереть… Ой, сучье племя. Самое подлое на земле. И Бог вам не учитель и государь – не отец. Куда ты поперся? А ну подь ко мне! И чтоб на цыпках! – заорал воевода, видя, что Феоктист не замедлил шага. – Где у меня сабля-то, куда задевалась? – бормотал Мещеринов, суетливо нашаривая из ножен ухватчивый посеребренный крыж, да все промахивался рукою мимо гасника, позабыв, что оружье его присупонено осторожным слугою в избе. – Эй, Гришка, выб… , тащи солистру, враг у порога… Ступай-ступай мимо, я сейчас тебе всю задницу искрошу в капусту».
… А что, запросто испрошьет пулею, ибо пьяное сердце завсегда полонено бесами.
Монах споткнулся, потащился к воеводской избе. Эх, угодил из огня да в полымя.
«Сам вор и семейка воровская, шиш на шише, – гундел воевода, вьщеливая из пистоли в лоб приближающемуся монаху. – Выбью мозги-ти, чтоб неповадно…»
«Что тебе вздивияло-то, Иван Алексеевич? Пошто балуешься, дорогой? Пойдем давай в избу байки», – ошарашил Феоктист вопросом, крепко приобнял за плечи, потянул в сени. Воевода упирался, тряс над головою пистолью, жал на спуск.
«Ну, полоротый, ну, дармоед, сядешь у меня на воду», – ругал Мещеринов слугу, «забывшего» зарядить солистру, наконец сдался, вернулся в избу.
Из другой половины, где жил дьяк Брызгалов с казною и печатью, выглянул тонколицый отрок.
«Цыть мне! Ни слова чтоб! Казнишь, де, батько пьяный… А батько твой не пьяный, а задумчивый. У отца твоего голова трещит от забот. Ну прости, ну выпил маленько, с устатку пригнул, снял пробу: не скисла ли? Да вроде бы ничего. – Мещеринов плеснул вина из походного дубового жбанчика, обтянутого посеребренными обручами, протянул чарку Феоктисту. – Знаю, что плут и выпить не дурак. И казну, сказывают, схитил? Пей-пей. – Воевода с пристрастием смотрел на монаха, почти заглядывая в черный беззубый рот, вроде бы сосчитывал глотки, а Феоктист не чинился, перекрестившись, ловко опрокинул хмельное, принял на грудь и одонки из чарки выжал себе на макушку. – Добрый питух, но плут!» – вдруг глянул воевода из-под напухших век зорко, испытующе, ощерился заячьими зубами.
«Не плут я, воевода, – вдруг обиделся монах. – Я к вам с правдой. Меня Бог к тебе спосылывал. Иль ты Христа не боишься?»
«Замолчи! Много братии до тебя из монастыря бегали. Они что, глупее тебя? Один ты знаткий да хитрый? Иль хочешь завлечь, искрошить меня, в саламату изжарить?.. Хотел бы помочь, давно бы сбежал, повинился пред государем. Чего тянул, изверг?»
«Иван Алексеевич, смиренно увещеваю, припадаю к стопам, опамятуйся. Не медли больше. Мой совет: от храма Онуфрия Великого у Белой башни в исподнюю бойницу проникну и ворота открою. … Это же Дом земной мой. Каждый закуток знаю. Я в обители с малых лет, душа плачет, как вижу в святых стенах разбойников и пущих воров, кто царя клянут. Почто веры-то мне нет? Воевода, образумься, не пропивай ума. Кто много пьет, тот не наследует Царствия Небесного…»
«Загунь! тебе ли учить меня ратному строю. Я огни и воды прошел. Это вы, холопьи души, монастырь профукали, ворам подстелились, как любостайные девки. Бл… сын, учить меня вздумал?»
«И буду учить, буду до скончания дней! – тонко вскричал Феоктист. – Я тебя не боюсь и на ноготь! Не станешь промысла над крепостью чинить по моей подсказке, отобью челом государю, крикну слово и дело, чтобы притужнули за шкиряку, чтобы небо с овчинку… Послышь Бога-то! Иль ты волчара такой выискался, чтоб народ понарошке резать? Чего волынку тянешь? Вот поклонюсь челобитьем в Тайный приказ, де, с умыслом кобенишься и с того великие протори казне и в людях большая поруха. Гликось, открой вежды, неправедный воин, ведь уж лес крестов понаставил. Целый лес крестов вырос…»
… Феоктист вылетел из двери в сугроб, как затычка из бражного жбана. Воевода, будто медведь-шатун, подмял бедного монаха под себя, задрал на голову шубняк, стянул порты, набил в исподники снегу…
* * *
Смерть живет всегда возле человека на расстоянии протянутой руки; но иногда за плечом стоит, а то и в глаза заглянет, и тогда слышно ее дыхание, чувствуется гибельный запах. Смерть – это неотлучная невидимая спутница, кою и в супружницы не берут, но и отталкивать бесполезно. Она вечная невеста. Иногда смерть приходит в сон в чужом образе, как весть и остерег.
… Сотнику Логину, спящему в своей келье, трижды слышался чей-то голос: «Логин, чего спишь? Враг под стеною». Сотник вставал и, перекрестясь, снова ложился на лавку. В третий раз, когда позвало, оделся, пошел на стены проверить сторожу: караульщики бодрствовали на своих местах. Ночь была безлунная, с ледяным ветром, секущим лицо. Потом Логин разбудил братию, поднял архимарита. Время было полуночное. Монахи собрались в церкви, отслужили молитву и снова разошлись на покой. На заре и ночная стража со стен и башен по обычаю убралась по кельям, остались в охранении два-три человека, да и те дремали, завернувшись в оленьи выворотки. А дневной караул нехотя, с проклятиями покидал нагретые лежанки, борясь с предрассветным сладким сном…
В это черное утро 22 января 1676 года Соловецкая святая обитель повенчалась со смертью.
* * *
Головной отряд в пятьдесят человек под командою майора Степана Келена отправился прямо к проходу, указанному Феоктистом. Следом, чуть помедля, выступил и воевода со всем полком, оставив на стану лишь больных, раненых и слабосилых.
… Бежали рысью, бесшумно, в одном легком кафтанье, на ногах мягкие оленьи тобоки, перевязанные под коленом, из оружья лишь сабли, солистры-пистоли для ближнего боя и кинжалы со встроенными стволиками. Пуржило, упруго стелился по-над островом спутний русский ветер, подбивал в пятки, взметывал над дорогою охапки снега. В кромешной предрассветной тьме невольно выстроились гуськом, как волчья стая, лишь слышалось тяжкое усердное дыхание. Монаху было тяжче всех, он тащил на плече лом, как страстной крест, но не смел отставать от долговязого вспыльчивого майора; да и сзади подпирали, мешали отступить, скинуться с дороги, перейти на шаг. Пот заливал лицо, сердце рвалось из рубахи, долгая поства и годы тюрьмы давали себя знать; монашьи мяса не только отощали, но как бы одрябли, приотстали от мослов, не давали хребтине упругой крепости. Но и слава Богу, что так споро, безоглядно творилось затеянное военное дело, ибо душе некогда было заунывничать и опамятоваться, вопросить у безмолвствующего Господа: Христе Спасе, да то ли я, грешный, творю, напускаю на братию свою орду немилостивую?..
У немчина селезенка екала, как у жеребца; иль только чудилось это? Обогнули Святое озеро, миновали опустелые, заметенные окопы отводного караула, притулились за высокими отрогами сугробов, прислушались, сдерживая прерывистое дыхание. Возле стен ветер выл по-волчьи, путаясь в бойницах среднего боя, развеивал по-над Соловецким монастырем рогозницы жгучей студеной порохи; над морем меж порывами вьюги вдруг вспыхивали голубоватые молоньи, словно бы размыкалась небесная твердь, и в эти извилистые трещины во мрак проливался радостный свет из другой, бестревожной жизни. Белая башня, призасыпанная снежной мучицей, походила на пасхальный кулич, из бойниц верхнего боя наносило жженым порохом и костровым дымом. Ни звука на стене, ни брусничного отблеска факела, ни клюковного зрака фонаря.
В такую непогодь исполняются всякие лукавые замыслы, когда Господь занят починкою небес, и не дремлет лишь смерть да ангел у своей оконницы.
Феоктист оглянулся, при свете сполоха увидел во мраке железную шапку воеводы; полк уже огибал Прядильную башню, приступал к Святым воротам, затаивался за торосами губы Глубокой, чтобы кинуться по команде на приступ. Всякая проволочка и заминка теперь несла угрозу всему войску, скопившемуся под городом, и весь успех решали всего несколько минут. Майор подтолкнул монаха, решив, что тот трусит. Феоктист, проваливаясь по рассохи в зыбучий снег, почти ползком пробился к башне, к той бойнице подошвенного боя, знакомой еще по отроческим годам, когда вместе с будущим иеромонахом Леонтием они тайно покидали обитель, чтобы вольно попастись по приозерным калтусинам и наволокам средь жирных зарослей борщевки и киселицы. Дыра была заметена, но Феоктист, работая руками, как собака, быстро выгреб нору; рядом жарко дышал немчин, не зная, чем пособить.
Монах подцепил нижний камень, обросший мохом, но не скрепленный известью, вывернул его ломом, сбросил кафтан и штаны и, оставшись в одном исподнем, обдирая плечи, протиснулся в темноту бойницы, в нижнюю клеть башни, где прежде в ларях, кадях и бочках хранился едомый запас. В кромешной тьме ощупкою нашарил лестницу на средний ярус башни, взобрался, оттуда пролез в волоковое окно сушила, спустился вниз и, просунув лом в проушины навески, сорвал замки, потянул на себя тугую толстую дверцу, оббитую кованым листовым железом. Велик ли лаз этот, сгорбившись едва проникнешь, но вот вся крепость с непобедимыми стенами и замшелыми грозными башнями, с уряженными стенами и бойницами, уставленная многими пушками, с многолетним запасом хлеба, сразу утратила свою неприступность.