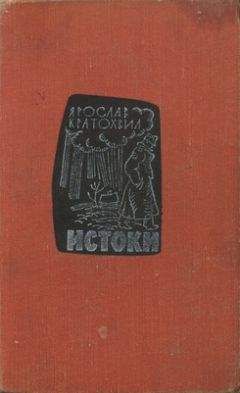Томан смотрел на Сонин профиль, не слушая болтовни Феклы, и удивленно думал — как мог он до сих пор равнодушно ходить мимо этой девушки.
Как-то в жаркий день Галецкая вытащила Соню на реку. Она нашла пляж неподалеку от того места, где купались и загорали пленные офицеры.
И именно в этот день неожиданно вернулся Зуевский. Он очень устал телом и душой. От усталости его слегка лихорадило.
Томан нашел его там, где надеялся увидеть Соню. Фекла ставила самовар. У Томана в первый момент сжалось сердце от какой-то необъяснимой тоски, зато потом вся огромная тяжесть последних дней сразу будто свалилась с него.
— Как, вы еще не уехали? — равнодушно спросил Зуевский.
Несмотря на усталость и жар, он, казалось, смотрел на мир строго, но с удивительным спокойствием и без оттенка отчаяния.
— Борьба продолжается, — сказал он, беседуя с Томаном. — Все к лучшему. Теперь мы, по крайней мере, знаем подлинное состояние дел и правильный диагноз. Это всегда необходимо — в интересах выздоровления.
Спокойно и по-деловому говорил он о развале на железных дорогах.
— Теперь, — подытожил он, — должны объединиться все живые демократические силы, чтобы восстановить государственный порядок. Необходима железная рука. Не только фронт, но и революция в опасности.
Соня с Галецкой вернулись под вечер. Неожиданно увидев Зуевского, спокойно разговаривавшего с Томаном, Соня тихо охнула и на секунду закрыла глаза, прислонившись к двери. Галецкая засмеялась.
— Ничего, ничего! — крикнул удивленным женщинам Зуевский и галантно пригласил их к столу.
Обе пахли солнцем и лугами. Зуевский стал наливать им чай; Галецкая наводняла комнату звонкой болтовней. Она неизменно называла Томана чешским героем и заставила Зуевского еще раз рассказать, что он видел и почему задержался. Эта хрупкая женщина любила слушать о вещах необыкновенных и ужасных.
— Зачем же вы отменили смертный приговор? — упрекнула она Зуевского, трепеща от неутоленной жажды сенсаций. — Что же это за революция, когда и стрелять нельзя? Что же это, простите, за война без убитых? Что за солдаты, если они боятся выстрелить? Я обожаю все прекрасное, чистое и героическое, не переношу нашей грязи и трусости. Слушайте, ведь Керенский, — конечно, он и красавец и мудр, какие могут быть сомнения, но… ведь весь его героизм — на словах! Поверьте, все женщины уже в нем разочаровались. И напротив, смотрите, — ах, этот Корнилов… Кажется, он не был ни в одной партии… Некрасивый калмык, может, и глуп, но — герой! Без сомнения, герой! Чуткое женское сердце инстинктивно понимает это даже на расстоянии. Он храбр! Он будет стрелять там, где нужно. Ах, поверьте, русский народ чуток, как мы, женщины. Я согласна с Корниловым, что без смертного приговора нельзя. Я… я поставила бы цепи пулеметов. И сама бы с наслаждением стреляла во всех наших трусов мужчин! Ух! Вы мне верите?
Зуевский с трудом превозмогал усталость.
— Насчет Корнилова я с вами не согласен. Но во многом другом вы, возможно, и правы. Наши, — добавил он измученно, — способны загубить все, ради чего мы, а до нас целые поколения, жили, страдали и умирали.
— Полюбуйтесь на ваш трусливый пролетариат! — восклицала Галецкая. — Думает, видите ли, что интеллигенция должна завоевать для него свободу! Чтоб мы за него приносили жертвы!.. Да, мы! — Голос Галецкой вдруг зазвенел где-то на грани серьезности и каприза. — А вы, пожалуйста, не улыбайтесь. Да, мы тоже приносим жертвы! Мы, слабые женщины! Сколько было женщин, которые боролись, революционерок! А сколько нас, неизвестных мучениц, преданно поддерживает ваши мужские подвиги! Я вот тоже когда-то хотела… дура, конечно… гимназистка! — хотела поднять своего Галецкого. Но он мой возлюбленный, а ныне законный муж, оказался несколько тяжеловат… — Галецкая засмеялась.
— А что, — с самым невинным видом спросила она потом Зуевского, — разве ваша жена, наша милая Агриппина Александровна, мало значит для дела вашей жизни?
Зуевский холодно нахмурился.
— Не смейтесь над ней! — коротко заметил он, вставая, и вышел со словами: — Прошу сегодня простить меня. Что-то знобит.
Соня проводила его испуганным взглядом, а Галецкая накинулась на рассеянного Томана.
— А вы не переживайте! Я чехов люблю! И — плюнем на наших мужиков. Поехали на дачу к Агриппине Александровне! Ах, в такие дни, как сегодня, у реки и в лесу — благодать. Вы будете моим рыцарем.
Болтая, Галецкая смотрелась в зеркало через плечо неподвижной Сони. Искоса разглядывая свое хорошенькое, оживленное лицо, особенно выделяющееся рядом с серьезным лицом Сони, она жалобно сказала Томану:
— Впрочем, для вас я стара, — старушка! — и обняла Соню с лицемерной озабоченностью. — Да что это с вами, милая? В самом деле, вы плохо выглядите, посмотритесь-ка в зеркало! Вам нехорошо? Это, верно, от солнца, вы к нему не привыкли…
И живо обернувшись к Томану, со смехом продолжала:
— Со мной однажды так случилось. Из воды еще кое-как вышла, а уж одеться не могла. Обморок! Ох! А там молодые мужчины были… Да вы слышите меня? — вдруг крикнула она Томану прямо в ухо, потому что он смотрел на Соню и не слушал ее.
— И кавалеры получше вас! Хоть домой-то меня проводите!
* * *
Соня осталась одна в тихой комнате между супружеской спальней и детской. Тело ее еще чувствовало солнце, свежесть и чистоту воды, горя крошечными огоньками. Через открытое окно дышал теплый летний вечер. В доме ни шороха. Тишина разливалась за ее затаенным дыханием и стуком сердца. И все же Зуевский был рядом, в спальне. Но Соня слышала его голос, только когда к нему входила Фекла. Фекла ушла, и опять настала тишина.
И вдруг ее разорвал голос Зуевского:
— Софья Антоновна!
Соня вскочила, оглушенная собственным сердцем.
— Что?
— Будьте так добры, скажите Фекле, пусть вскипятит еще чаю — хоть на спиртовке, и принесет с лимоном.
— Я сама вскипячу.
Руки и сердце Сони дрожали.
Осторожно постучав, сама не своя, она вошла с чаем. У постели горела свеча, ее пламя желтыми искрами отражалось в горячечных глазах Зуевского.
— Что с вами, Михаил Григорьевич? — тревожно спросила Соня, когда Зуевский взял у нее чай.
— Да ничего… Всех нас лихорадит.
— Плохо с революцией — и на фронте?
— Н-ну…
Она хотела уйти, сердце ее беспокойно билось. Зуевский остановил ее:
— Посидите с больным, пожалуйста…
На стуле лежала его одежда. Он освободил ей место с краю кровати. Соня покраснела, поколебалась, но все-таки послушно села на самый краешек.
Растроганно смотрела, как поблескивают на висках Зуевского, среди черных волос, серебряные нити. Стала рассказывать о работе, проделанной в его отсутствие.
— Прошу вас, не надо сегодня!
Она приняла от него пустой стакан и поставила на стул.
Зуевский поблагодарил ее взглядом и положил свою большую ладонь на ее маленькую девичью руку. Сенина рука под этой ладонью словно умерла. И с нею умерли все слова.
Зуевский сам, нескладно и с запинками, принялся рассказывать о поездке. Он говорил подробнее, чем днем, и необыкновенно искренне:
— Все рушится, — пожаловался он ей. — Люди не созрели… Мы-то в другое верили, Сонечка… А это — чернь!
Он заговорил о своих новых планах, об Учредительном собрании и о новой поездке в ближайшие дни.
Пламя свечи беззвучно горело во внимательных и преданных глазах Сони.
— Вы не поедете с нами к Агриппине Александровне?
Зуевский помолчал. Потом сказал твердо:
— Нет.
Соня словно только сейчас замолчала — глубоко, до дна души. И слова Зуевского зазвучали одиноко и были пропитаны горькой печалью.
Он начал сам, хотя Соня об этом не спрашивала.
— Ей всегда было, да и сейчас тоже… даже слушать неприятно, чем я живу…
В спальне, казалось, было только Сонино дыхание. И этому дыханью, ее светящимся глазам Зуевский сказал:
— Она добрый и честный человек… Но — тяжелый… Случайный…
И нежно погладил Сонину руку. Соня вся была в его ладони. И было ей в этой ладони безопасно и сладко, как в гнезде.
Она прижалась лицом к тыльной стороне этой ласковой руки, и Зуевский вдруг почувствовал ее губы, а потом слезы.
Соня тихо плакала.
Сильные мужские руки стали утешать ее.
Потом эти руки задрожали.
Становились тяжелее, тяжелее…
И вдруг Соня испуганно схватилась за грудь; несколько запоздало прижала к коленям подол белого платья.
Охваченная пламенем девичьего стыда, сразу высушившего слезы, она, как пьяная, вырвалась из этих рук. С головой в хмелю, с туманом в глазах, не глядя на Зуевского, униженная и смятенная, она, шатаясь, выбежала вон.