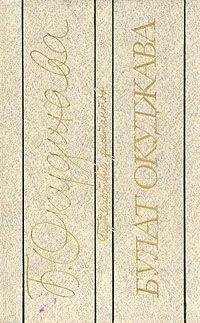Итак, мы обедали с князем.
Должен сказать, что, когда князь сидел и не выказывал своей хромоты, он был вполне нормальный и даже приятный мужчина. Одежду он носил не изысканную, но вольную, которая к немy шла. Он вообще был мужчина стройный, сдержанный и со слугами прост. Говорил спокойно, но безо всякого к вам интереса, и я чувствовал, что уйди я – он и не заметит.
Кстати, за столом неразговорчивого князя я вволю повспоминал о том о сем и, конечно, вспомнив Катеньку Лапшину и причиненные ею мне беды, не мог не вспомнить и другую бурную свою любовь – спасительницу свою от предыдущей любви, а именно Машеньку Сенину, голубоокого ангела. Всю свою жизнь, а особенно в молодые годы, был я на поводу у собственного сердца, а оно жаждало если не страстной любви, то хоть ее подобия, но только с горячими поцелуями, непременно с горячими… И вот Машенька, прехорошенькая, горделиво–капризная, на которую засматривались даже столичные селадоны, но только засматривались да облизывались, ибо им всем она предпочитала меня. Правда, мы встречались редко, и со мной тоже бывала она капризна, но зато нисколько не горделива. Я уж было совсем, по своему обыкновению, распалился, как вдруг она уехала в деревню и вышла замуж за какого–то отставного военного… Это я к тому, что женскую душу понять невозможно, стало быть, невозможно понять и души всех тех красоток, над коими князь Мятлев когда–то имел власть.
В тот день, воротившись от князя, я первым делом навел справки относительно его последней жертвы. Оказалось, что дамочка эта, полячка по происхождению, в девичестве Бравура, а ныне госпожа Ладимировская, писаная, как мне стало известно, красавица, вернулась к законному супругу и укатила с ним в Италию. Одумалась. Хотя я теперь вполне понимаю князя, ибо сам прожил несколько лет в Варшаве и не одна из тамошних паненок вызывала у меня приступы тягчайшей и неотразимейшей страсти. Только непонятно, думал я, почему она, эта гордая красавица, могла полюбить, то есть не полюбить, а обезуметь при виде этого хромого, неловкого, молчаливого развратника в очках, лысеющего, старого, опасного? Я в молодости был хорош собой, и на меня засматривались многие, не скрою. Так я же был выше князя, стройнее и легче на ногу. Я отлично танцевал, а мундир полицейского исправника в те времена придавал мне еще больший шарм. Был я хорошо начитан, в острословии редко кто мог со мной тягаться, но при этом было с избытком во мне сердечного тепла и верности, что даже самыми легкомысленными красавицами не может не цениться. Чем же он их все–таки брал, думал я, и особенно ту невероятную полячку, воспитанную в Петербурге и вращаюшуюся в свете? Я, например, кроме вышеперечисленных достоинств, обладал еще одним, а именно – виртуозным умением играть на гитаре и петь. Этому я научился еще в детстве, и с тех пор не одна гордячка падала ниц, услышав гитарные аккорды и мой голос. Я даже сочинял для дам стихи, а какая из представительниц слабого пола смогла бы устоять, едва заслышав: «Не удивляйся, что в лазури твоих голубеньких очей…» и т. п. «Так чем же он–то их брал?» – думал я.
Отношения мои с изгнанником были самыми предобрыми: князь меня не то что терпел, а даже отмечал своим расположением и даже весьма благосклонно реагировал на мои рассказы, когда я, бывало, примусь живописать перед ним свои похождения и каждой знакомой дамы обрисую яркий портрет.
Князь был болен. Его мучили припадки. Я сам был свидетелем этих дурнот. Лицо белеет, на лбу – крупный пот, но глаза открыты, хоть ничего не видят, губы дрожат, как у дитяти, выражение виноватое, и он медленно подступает к вам… подступает… подступает… Однако скоро все и кончается. Посидит минуты две, и снова как ни в чем не бывало. Иногда, подступая вот так, предлагает вам деньги или какие–нибудь иные ценности. В первый раз я от растерянности даже принял от него несколько ассигнаций – так он настойчиво мне их вручал. Правда, припадки эти были не так часты: в день раза два–три, не более… Он объяснял, смущаясь, что это от раны в живот, полученной в юные годы, да я–то думаю, что истинная причина – долгое прожигание жизни, разврат, темные дела, которые за ним водились. Вот, например, одна из моих былых любовен, а именно Евдокия Шеер, была подвержена таким же припадкам, но она–то ни в каких сражения не участвовала и ран никаких отнюдь не получала, кроме разве горячих моих поцелуев. Короче, больного человека надо было обихаживать, нужна была женская рука… И вот, представьте себе, приезжаю я однажды в Михайловку и застаю долгожданную перемену: князь выписал себе экономку! Откуда он ее выписал – не знаю, но дом сразу приобрел обжитой вид, и дворовые девки, что кружились бестолковым роем, как–то приутихли, умылись и принялись за дело. Не скрою, едва я узнал oб этой новости, сердце у меня дрогнуло: уж не затевает ли князь прежних штучек? Уж не одна ли из его петербургских нигилисток примчалась сюда содействовать новым злонамерениям? Уж не та ли самая великосветская раскрасавица пожаловала в Михайловку под видом экономки, пренебрегши Италией и законным супругом?… Гляди, брат, подумал я, не дай вспыхнуть огню. Всякие предположения натянули нервы до отказа. Но как же я успокоился, даже разочаровался, когда она наконец явилась передо мной: это была женщина уже давно немолодая, чуть повыше среднего роста, заметной худобы, одетая в глухое платье из серого гроденапля, даже, пожалуй, не платье, а платьишко, и на плечах лежал темно–серый платок, неоконченный какой–то, будто обрезанный… и вообще все было какое–то тоненькое, худенькое, востренькое, так что едва я все это разглядел, как тотчас и успокоился, и всякие подозрения, возникшие было в моей душе, начали затухать, ибо я сравнивал эти невыразительные формы со знакомыми мне бюстами красавиц, от которых на расстоянии ощущался жар… От этой же особы распространялся холод. Никаких намеков на великосветское, столичное, знатное, кроме, может быть, высокомерия этой приезжей, возомнившей себя незаменимой, ежели ей князь доверил распоряжаться своим домом. Особенно успокоило меня ее лицо. Оно было не белое с отблеском утренней зари, а скорее со смуглинкой, отчего казалось как бы даже выцветшим. На нем располагались два равнодушных серых глаза, а губы изгибались так, что можно было ожидать злой усмешки, хотя этого не происходило. Может быть, и ее, конечно, когда–нибудь кто–нибудь обожал, вкусы ведь бывают разными, хотя очень сомневаюсь. А нынче это была засушенная мумия, на которую и глядеть–то было тоскливо.
Однако, видимо, и она что–то такое там стоила, ежели князь вздумал доверить ей ключи от дома и свой покой. Как уж она распоряжалась по дому, с точностью судить не берусь, но одно замечу – все как–то утряслось у князя, и он ей полностью доверял и даже отправлялся на прогулку в старой коляске о двух конях, и неизменно в ее сопровождении. На меня же ключница эта глядела с недоброжелательством, и мои дружеские общения с князем постепенно прекратились…
…Да, я совсем позабыл еще одну забавную деталь. Эта ключница, пользуясь доверием князя, а вернее, его беспомощностью, совсем возомнила себя бесценным сокровищем и вела себя так, будто, отворотись она от князя, как он тотчас пропадет или еще с ним что–то случится. Она и на пять минут его не оставляла, выскакивала откуда–то, вылезала, выглядывала: на месте ли он. Конечно, вы скажете: похвальная заботливость, но выглядело это ненатурально, ибо известно было, какие деньги платит князь за заботу. Чрезмерное усердие переливалось через край и вызывало с моей стороны усмешку. За это она, наверное, и невзлюбила меня. Что ж делать? Мой острый, все подмечающий взор приносил мне не только радости. Скорее всего она и князю позлословила обо мне, ибо с ее появлением он резко ко мне переменился. Не скажу, что стал неучтив или недоброжелателен, но интерес ко мне потерял. Раньше, бывало, иногда спрашивал: «Какие новые романсы сочинили?» Или: «А как вы полагаете, есть на свете гитарист совершеннее вас?», на что я обычно отвечал со смущением в том смысле, что откуда же мне знать, что где–нибудь, может быть, и есть, не исключено. Но затем вопросы прекратились, и стал я замечать, что князь точно обезумел. Все следил с тревогой: не ушла ли? Где она? Куда пошла?… И лицо его при этом выглядело преглупым. Я было даже подумал, что князь влюбился в эту даму: в нашей глуши при его одиночестве и беспомощности можно было влюбиться даже в осину, а тут все–таки дама и по–французски говорит. Но это предположение живо меня покинуло, как смехотворное. Не мог он, не мог… Короче, она и ему внушила, что без нее он бы пропал, и он, как дитя, доверился ей, и шага без нее не делал, и потерять ее страшился.
В скором времени их совсем залихорадило. Князь вдруг вздумал открыть больницу для крестьян. Велел отремонтировать малый господский дом. Явился откуда–то настоящий доктор, тучный и пьющий, и ключница нарядилась в белый фартук и клобук. Смех, да и только… Но больных не было. Я перестал к ним ездить. У нас ведь как бывает: сначала все кипит, свистит, а после – пар вышел, и все позабылось. Так и надзор за князем: сперва с меня строжайше спрашивали: что он? как он? А время прошло – и никому не стало охоты им заниматься. То есть надзор оставался, но все больше на бумаге, так что, пожелай князь теперь прокатиться в Петербург, – никто бы ему не помешал. Только ему тогда было уже не до катаний.