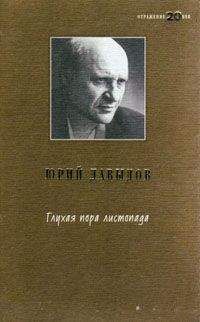Ю.Б.: И ученый-историк, и историк-писатель стремятся к установлению «момента исторической истины», однако делают это по-разному. Ученому достаточно установить исторический факт, выявить его место и значение в цепи других фактов и событий. Для писателя факт, событие – только побуждающий фактор к воссозданию прошлой жизни, ее плоти, ее материи. Как происходит, как удается это воссоздание писателю?
Ю.Д.: Удается ли – это еще бабушка надвое сказала. Если удается – это счастье. К тому же я думаю, что и историки могут воссоздать плоть истории. Такие примеры бывали: Ключевский, Тарле.
Историк чаще имеет дело с документом, который некогда и создавался как таковой, с документом официальным, хозяйственным, статистическим и т.п. Иногда он имеет дело и с человеческим, домашним документом, но он его рассматривает иначе, чем писатель, в этом документе его действительно интересует факт. А писателя – характер, брызжущий из этого документа, вот почему человеческие, домашние документы его интересуют больше. Хотя должен признать, что любой документ, даже самый что ни на есть официальный, имеет эстетический заряд, – его нужно уловить. А нам это не всегда удается.
Есть такое выражение: «Писатель сидит в материале», – что означает: он старательно и дотошно изучает эпоху. Однако пока материал не сидит в писателе, он может рассказать об изученном им времени, хорошую лекцию прочитать, но художественного произведения не создаст. Сидение в материале – вопрос добросовестности. А воссоздание эпохи начнется тогда, когда появится что-то в душе, что начнет взаимодействовать с материалом. Вот, например, кроме тех времен, о которых я пишу, на пространствах истории есть и иные интересные для меня места, которыми я занимался, много читал о них. Скажем, Херсонес Таврический. Но я знаю точно: повесть о нем у меня бы не получилась. А как это понятнее объяснить – не знаю, затрудняюсь.
Ю.Б.: Ставя в центр произведения идейные и нравственные проблемы, современный исторический романист не забывает и о бытовой стороне жизни, очень внимателен к той бытовой атмосфере, в которой родились и оформились эти проблемы. Было ли так всегда, или это недавнее завоевание нашей исторической литературы?
Ю.Д.: Бытописание занимало исторического романиста прежде, занимает и теперь. Прежде больше, чем теперь. Мы опасаемся музейной скуки, шикарного антиквариата. А бытописание – не синоним бытовизма и обыденности. Да и этого, на мой взгляд, в наших исторических сочинениях недостает. У нас нет ничего «незначащего», у нас «все ружья стреляют».
А жизнь, которую мы описываем, – вчерашняя так же, как и нынешняя, – поаморфнее, порасслабленнее, полна обыденности, милой и значимой. Мы же ее не воссоздаем, сажая прошлую действительность на жесткий каркас. И поэтому порой в наших сочинениях нет «мяса».
Обыденность, быт должны быть в наших романах, иначе не возникнет атмосферы времени, в которой дышали, двигались наши герои, атмосферы, которая во многом определяла характер их поступков.
Ю.Б.: Жизнь людей прошлого века в самых разнообразнейших ее проявлениях довольно полно описана в произведениях и классиков, и второстепенных писателей: Гоголя и Вельтмана, Гончарова и Панаева, Лескова и Терпигорева, Салтыкова и Левитова, Чехова и Боборыкина… И вот современный писатель вновь берется описывать эту действительность. Как вы относитесь к этой ситуации? Чем вам помогает прежняя литература, чем, может быть, мешает?
Ю.Д.: К этой ситуации отношусь спокойно. Только давайте оговоримся, что ни о каких сравнениях речь не идет. У меня другой угол зрения, ибо я живу в другом времени. То, что для классика было текущей жизнью, для меня – история. Правда, история, которой я должен возвратить ее текучесть.
Я свою задачу мыслю как живописание индивидуального исторического персонажа. Причем я имею дело с той индивидуальностью, которая оставила след в истории, и индивидуальностью, которая имеет свои точные координаты, из которых я не хочу и не должен выйти.
Помогает или мешает? Блок как-то сказал: мне мешает писатель Лев Толстой. Мешает, но и помогает. Мешает потому, что внушает чувства послушника, смирение и робость. Помогает тем, что заставляет меня не распускаться. Работать на пределе сил, дает пример служения родной литературе.
Ю.Б.: Хотя разговорный язык людей XIX века не слишком отличается от нынешнего разговорного языка, все же какая-то разность есть; более всего – в лексике, меньше – в речевом строе. Для писателя эти изменения и заметнее, и чувствительнее, и показательнее, чем для читателя. Что вы можете сказать о своих наблюдениях в этой области? Какие трудности в этом плане подстерегали вас?
Ю.Д.: Я не могу сказать, что проводил по этому вопросу регулярные и целенаправленные наблюдения. Они возникают в процессе работы. Трудность заключается в том, что исторический роман нельзя писать дистиллированным языком, лишенным щелочей и кислот. А впадать в архаику, в стилизацию, на мой взгляд, есть необоснованный художественный риск. Можно архаизировать тональность, ритмику, но не язык. Одновременно нужно следить, чтобы не проскакивали неологизмы. Где-то однажды я прочитал такую фразу: «Чиновники шли на работу». Автор, написавший это, читал труды по истории, документы эпохи, старые книги, но он… Как бы это сказать? Он на ухо тугой.
Конечно, в лексике разница значительная, и она даже не столько в смысле, сколько в душе самих слов. В душе-то эта разница ощутимее всего, и это нужно чувствовать. Вообще язык быстро и сильно меняется. Например, гигантская разница существует между языком первых десятилетий XIX века и языком 80-х годов того же столетия. Это словно языки времен, отделенных друг от друга веками. И как же не учитывать это пишущему человеку? Чуткий к языку литератор (это вроде бы само собой разумеется, но в теории, а не на практике) как бы произвольно, незаметно для самого себя вольется, войдет в эту языковую стихию, ощутит музыку языка, музыку времени, которая и звучит-то именно в слове.
Ю.Б.: Как сегодняшний день с его многообразнейшими коллизиями и проблемами – личными, общественными, бытовыми, внутри– и внешнеполитическими, психологическими, литературными, экономическими и т.д. и т.п. – врывается в труды исторического романиста? Как он и в крупном, и в мелочах сказывается на вашей работе? Если можете, приведите какие-нибудь конкретные примеры.
Ю.Д.: Поскольку я беру реально существовавшие в прошлом ситуации, то непосредственного наложения, вроде тождества треугольников в геометрии, не происходит. А какие-то грани в ситуации иной раз более высвечиваются, чем иные, – это как раз и связано с тем и зависимо от того, что живу и пишу в эти именно времена, а не тридцать – сорок лет назад. Если бы перелистать свои книги, наверное, можно было бы обнаружить следы непосредственного влияния современных событий, но сейчас не припомню подобных примеров.
Биографические моменты, похожие на описываемую ситуацию, конечно, помогают ее воссоздать. Вообще сказывается свой жизненный опыт – виденное, слышанное, читанное: не только историческое, но и современное. Во время Отечественной войны я слышал высказывание английского офицера: «Я у своей мамы один, а у ее величества – кораблей много». Это мне запомнилось и, когда я писал книгу о Нахимове, помогло объяснению бегства английского капитана Слейда из Синопа, оставившего союзников-турок.
Ю.Б.: Продолжаете ли вы работу в исторической прозе? Скоро ли читатели познакомятся с вашей новой исторической книгой?
Ю.Д.: Как же не продолжать – для меня это даже не главное, а единственное дело. Закончил роман о Германе Лопатине. А скоро ли он выйдет? Все мы ходим под богом, а некоторые – еще и под издателями, что не так уж и весело.
Ю.Б.: Не буду вспоминать ваши сугубо «морские» биографические книги или ваши повести о русских путешественниках. Но даже историей русского революционного движения второй половины прошлого и начала нынешнего века вы занимаетесь уже лет двадцать. Как менялись за это время и методы работы с историческим материалом, и художественные приемы, и жанр ваших книг?
Ю.Д.: Ослабела в какой-то мере власть документа, стал свободнее в междокументальной области. Помните, Ю.Н.Тынянов говорил: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Так вот, побольше стало этого: «я начинаю».
Приемы мои вы видите и сами. В «Глухой поре листопада» – это объективное письмо, обычное повествование. В «Завещаю вам, братья…» – мемуары двух разных и по возрасту, и по общественному положению, и в политической позиции, и в отношении к главному герою людей. В «Судьбе Усольцева» – записки героя и комментарии историка-архивиста. Важно не только прием найти, но верный тон, обеспечивающий точное владение приемом. «Судьба Усольцева» легче всего написалась.