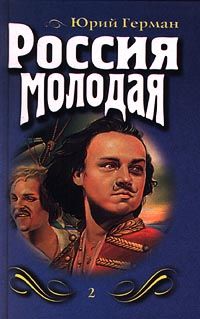Спросил, повернувшись к Иевлеву лицом:
— Ты сколько времени дома-то не был? Месяц, два?
— Поболе, государь. Как началась высадка в Швеции нашего войска, с тех пор и не бывал. Год скоро…
— Ну, наведайся, наведайся домой, — рассеянно произнес Петр. — Уже, небось, и дедом станешь вскорости?
— Давно дед! — с улыбкой ответил Иевлев. — Двух внуков видел, а третью — внучку — еще не поспел повидать, в плавании пребывал.
— Ты вот что! — совсем не слушая Иевлева, перебил Петр. — Ты в Архангельск как приедешь — сам посмотри, готовы ли они доброго друга, аглицкого вора, приветить. А губернатору Лодыженскому я нынче же указ заготовлю. С сим указом и поскачешь. Да растряси губернатора, растолкуй ему как делать надобно…
Он остановил одноколку у нового двухэтажного дворца в Летнем саду близ Фонтанки, кинул вожжи выбежавшему денщику и, взяв Иевлева за локоть, вошел с ним в сени, все еще рассуждая об Архангельске. В столовой Петр крикнул:
— Щей горячих, Фельтен, да живо!
Хлебая горячие щи, обжигаясь, сердито диктовал Иевлеву мемориал губернатору в Архангельск:
«…чтобы от аглицких воинских кораблей имел осторожность, и гостиные бы дворы палисадами и больверками укрепил и пушки поставил, и торговые суда поставил бы в безопасное место…»
Подписав бумагу, Петр сам пошел в кабинет, принес оттуда кожаную сумку, раскрыл ее, показал Сильвестру Петровичу копию с секретного приказа адмирала Норриса по эскадре. Твердым ногтем были подчеркнуты слова: «…во всякое время, когда вы нагоните какие-либо русские суда, вы должны принять все меры, чтобы захватить, потопить, сжечь или каким-либо иным способом уничтожить их». Здесь была и другая копия — с письма сэра Стэнгопа тому же Норрису. Сильвестр Петрович опять прочитал отчеркнутые строчки: «Не остается желать ничего лучшего, как только чтобы его суда и галеры попались на вашем пути, причем нет сомнений, что вы надлежащим образом разделаетесь с ними…»
Иевлев дочитал. Петр, хмурясь, запрятал бумаги в сумку, заговорил, расхаживая по комнате, глубоко засунув руки в карманы кафтана:
— Двадцать один линейный корабль и десять фрегатов у него, нынче все они в Швеции. Привели шестьдесят торговых кораблей с товарами, для чего? Дабы и мы и шведы кровью изошли, тогда аглицкие сэры да пэры обрадованы будут и кнут в руки возьмут — Европою командовать. Да что нынешние времена — вспомни посольство Украинцева в Турцию, как там господин аглицкий посол в те поры пакостил…
Он подошел к столу, оперся на него обеими руками:
— И заметь себе, Сильвестр, что бы ни делали, как бы ни хитрили, кого бы ни обманывали — слова всегда одни: для ради божьего мира на земле, для ради доброй торговли и прибытков, для ради дружества и любви меж государствами… Лицемеры, ханжи, наветники треклятые.
Отнес сумку в кабинет, было слышно, как лязгнул там замок, вернулся, сказал:
— Поедем! Покажу тебе, каков корабль нынче заложен…
Выйдя из здания коллегии, Рябов неторопливыми шагами направился к перевозу, который был расположен невдалеке от деревянной церковки во имя святого Исаакия.
Здесь всегда кипела жизнь: лодки сновали между Адмиралтейством, Васильевским, Аптекарским, Фоминым островами, развозя служилый и ремесленный народ по молодому городу. Офицеры в плащах и треуголках, при шпагах, солдаты и матросы, торговки с коробьями, попы, купцы, иноземные лекари, плотники, каменщики, девки и пожилые женщины во всякую погоду привычно прыгали в шаткие невские посудины, платили копейки и гроши за перевоз, перевозчики ловко гребли легкими веслами, огибая корабли, стоящие на якорях…
Нынче еще издали Рябов заметил, что привычная картина изменилась: весь берег у перевоза был оцеплен конными драгунами, и лодки не бороздили, как обычно, полноводную реку, а плыли все вместе, рядом, тяжело нагруженные какими-то лохматыми и оборванными людьми.
— Колодников везут? — спросила у Рябова маленькая старушка, вглядываясь в лодки.
— Колодников, мать, — ответил Рябов.
— Много?
— Да, вишь, сколь лодок гонят — должно, все колодники…
Старушка покачала головою, утерла слезинку, стала развязывать платок, готовясь подать милостыню. Офицер, привстав в стременах, зычным голосом крикнул:
— Выходи-и-и на берег!
Первая лодка ударилась бортом о дощатый настил, колодники, гремя цепями, тяжело опираясь друг на друга, начали перебираться на пристань, оттуда прыгали в жидкую прибрежную грязь. Драгуны расступились, офицер опять крикнул:
— Выводи, выводи повыше, пусть там дожидаются…
Рябов не успел сойти с дороги — первые ряды колодников быстрым шагом уже проходили мимо него, совсем близко, так близко, что он даже слышал тяжелое дыхание людей. И совсем рядом, опираясь на посох, прошел седобородый, седоволосый человек с вырванными ноздрями и сухим, жгущим блеском глаз. Этот блеск зрачков, завалившиеся, словно бы обгоревшие щеки, крупные завитки волос что-то напомнили Рябову, что-то давнее, что-то дорогое и близкое. Он даже задохнулся и, сам не слыша своего голоса, крикнул:
— Молчан? Стой, Молчан!
Седобородый колодник быстро обернулся, хотел было остановиться, но его толкнули в спину, и он зашагал дальше, гремя своими цепями, высоко держа простоволосую курчавую голову.
Рябов, словно молодой, рванулся вслед, оттолкнул солдата, схватил Молчана за рукав ветхого, в заплатах азяма. Тот опять оглянулся и очень радостным, но спокойным голосом сказал:
— А я было подумал — обознался. Ну, здравствуй, кормщик…
— Поживее! — с коня закричал офицер. — Проходи-и!
Колодники все выходили и выходили на берег, шагали быстро под окрики и брань конвоиров, вытягивались длинной серой лентой. Один солдат хотел было оттиснуть Рябова в сторону, но испугался его взгляда и побежал вдоль колонны, как бы занятый другим, более важным и спешным делом.
— Встретились, значит, — говорил Молчан на ходу, вглядываясь в кормщика пристальным, ласковым и лукавым взором. — Ишь, сколь много времени миновалось, а мы все живы. Судьба…
— И то судьба! — стараясь приноровиться к тяжелому, но ровному шагу Молчана, повторил кормщик. — Не померли…
— Я думал, в те поры и не отжить тебе. Крепко тебя швед обласкал. И по сей день помню: тронули мы тогда тебя — на телегу класть, а из тебя опять кровищи, и-и-и! Стоим, раздумываем — помрешь али нет. Федосей покойный посчитал — семнадцать ран было…
Рябов шел рядом, глядя в сторону.
— Да ты что от меня воротишься? — спросил Молчан. — Ты что на меня не глядишь?
— Того не гляжу, — словно собравшись с силами, ответил Рябов, — того я на тебя не гляжу, что вот и поныне я жив-здоров, а ты закован, и клеймен, и ноздри у тебя рваные, и персты рублены. А ведь за людей, за меня, за правду нашу ты да Федосей Кузнец смертное мучение приняли, когда челобитную везли царю…
Молчан усмехнулся, вздохнул, покачал головой.
— Нет, друг любезный, — сказал он ласково, — нет, Иван Савватеевич, не за то секли меня кнутом нещадно, не за тебя рвали ноздри и персты рубили: в те поры ушел я, ох, ловко ушел, за твое золото ушел и долго, мил человек, по белому свету гулял. Ну, гуля-ал!
Глаза его опять блеснули сухим огнем:
— Славно гулял, многие меня, небось, и по сей день добрым словом поминают! Побывал в дальних краях, и на Волге-матушке, и на Дону на тихом. Много нашего брата там — и солдаты беглые, и казаки, и работные люди, и холопи вольные, и голытьба…
Быстро, шепотом спросил:
— Про бахмутского атамана Булавина слыхивал ли?
И, не дожидаясь ответа, сказал:
— Его-то самого нынче и в живых нету. Атаманом Всевеликого Войска Донского ходил. Ну, мужик! С ним и был я все время, поднимал голытьбу. Да продали нас… И тогда я еще ушел, спасся. Столь повидал — иному бы и на три жизни хватило…
Он задумался, потом с тихой яростью в голосе спросил:
— Думаешь, не уйду? Так тут и останусь? Шесть разов уходил, уйду и на седьмой. Оглядеться только надобно, сбежать без промашки, иначе голову отрубят. Нет, я, друг милый, уйду, догуляю свое…
Драгунский офицер рысью обогнал колодников, крикнул Рябову:
— Ты тут што? А ну, в сторону!
Проскакал дальше, замахнулся плетью на молодого колодника, который тяжело волочил цепи, никак не мог поспеть за своим рядом.
Рябов быстро поискал по карманам, нашел малую толику денег, отдал Молчану вместе с узелком, что собрала Таисья. Тот сразу взялся за лепешку, тряхнул кудрявой своей головою, попрощался:
— Ну, кормщик, иди, неровен час, огреет тебя наш дьявол плетью. Видать, более не повстречаемся. Разные у нас с тобою дороги. А все ж помни: станет невмоготу — беги на Волгу.
Жуя лепешку, он на ходу оглядел небо, серые невские воды, лес, что густо чернел сразу же за церквушкой святого Исаакия, произнес с удивлением: