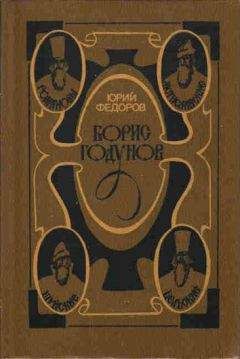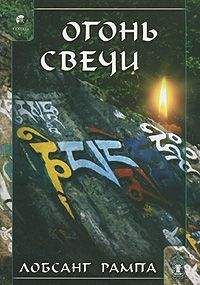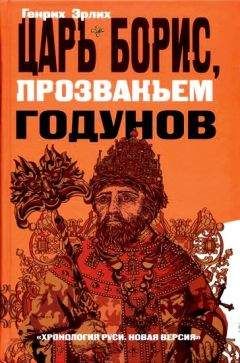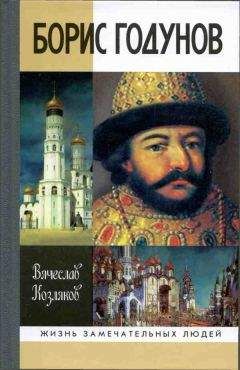— Рыцари! — кричал пан Мнишек. — Честь ваша, ваша слава…
Монашек улыбнулся. «Прав, — подумал, — святой Игнатий, учитель ордена, сказав, что мерзостен человек и слова его ложны. О каком рыцарстве вопиет этот пан, о какой чести?» Он-то знал, что привело пана Мнишека в российские пределы, как знал и прошлую его жизнь и представлял себе его будущее, ежели пану удастся осуществить задуманное. Для монашка не было в том тайны.
Монашек переплел пальцы и до боли сжал их.
В толпе между тем уже изменилось настроение. И кто-то сказал:
— А что, хлопцы, отомстим за атамана?
Другой, срывая голос, заорал:
— Хай живе батько Белешко!
И волной заходили по толпе голоса:
— Отомстим!.. Хай живе!..
Как трудно угадать, куда направится огненный пал, гонимый ветром по степи, так же трудно предвидеть и настроение казачьей толпы. Оно всегда непредсказуемо, вольно и свободно, как огненные языки, пожирающие многоверстные пространства немеренных степных просторов. Еще минуты назад кричавшие: «В Сечь! В Сечь!» — с такой же страстью и убежденностью закричали:
— Отомстим! Отомстим!..
Пан Мнишек мог быть доволен. Однако он не знал, что его ждет неожиданность.
Светало.
Причетник[33] краковского Мариатского собора приотворил тяжелую дверь главного входа в храм и выступил на заметенные снегом ступени. Причетник был стар, и открывать собор задолго до первой мессы было ему нелегко, однако к службе он относился добросовестно, и еще ни разу не случилось, чтобы он проспал или замешкался в выполнении этой обязанности. За вытертую до блеска тысячами рук и знакомую до малейшего изгиба медную рукоять дверей он всегда брался в одну и ту же минуту. Дверь, уступая, шла на хорошо смазанных петлях, пока не раздавался сухой щелчок и тяжелое полотно, задержанное защелкой, останавливалось, прочно закрепившись на весь долгий день.
Справившись с дверью, причетник, как всегда, смахнул снег со ступеней и вынес из темной глубины храма лестницу. Старательно, как это делают только старые люди, трудно переставляя непослушные ноги с перекладины на перекладину, поднялся к висевшему над входом медному фонарю и погасил свечу. Затем убрал лестницу и, шаркая подошвами, вошел в огромный зал собора. Остановился, обвел неторопливыми глазами едва освещенные ряды скамей, украшенные росписью стены и надолго задержал взгляд на фигуре Христа, вознесенного над залом. Причетник не помнил, сколько лет вот так вот по утрам останавливался посреди храма и подолгу смотрел на распятого на кресте сына божьего. Время притупило взгляд старика, и он больше не замечал боли в раскинутых руках Христовых, в мучительном изломе тела, однако верил, что это утреннее свидание с сыном божьим дает ему силы еще на один день жизни.
Старик причетник потянул непослушную руку ко лбу и в это время услышал, как у собора сильно застучали по мостовой колеса. Он повернулся и поспешил к дверям.
Когда причетник вышел на ступени, у собора стояла большая, богато остекленная карета. Гайдук в синем, опушенном мехом жупане с поклоном распахивал ее дверцу.
Карета была незнакома старику и незнакомым показался ему вышагнувший из нее сухой горбоносый человек в богатой шубе. Поднявшись по ступеням, он прошел в собор.
Гайдук остался у кареты и стоял, тараща глаза и алея крепкими щеками, разогретыми морозцем. Старик невольно отметил живой блеск его глаз, задор молодого лица, как отметил и немалые коробы, привязанные в задке кареты. Они без сомнения свидетельствовали, что хозяин ее собрался в дальнюю дорогу. Постояв еще с минуту на ступенях, причетник вошел в собор и увидел, что неожиданный ранний посетитель сидит на скамье близ входа с молитвенно склоненной головой.
Причетник отступил в тень стены и остановился. Он решил так: добрый католик собрался в дальнюю дорогу, а перед тем, как пуститься в путь, пришел в храм вознести молитву господу. И в этом он не ошибался. Ошибся он в том, что принял раннего посетителя за незнакомца. Он знал этого молящегося, однако никогда не видел его одиноко входящим в храм. Тот многажды бывал здесь, но бывал всегда в блестящей королевской свите, так как молитвенно застывший в пустынном зале собора человек был знатным вельможей Львом Сапегой.
Лев Сапега, наверное лучший знаток в Польше российских дел, в Кракове оказался не случайно. Многие обстоятельства привели его в этот город. Королевская резиденция в связи с закреплением унии между Польшей и Литвой давно была перенесена из Кракова в Варшаву, но древняя столица Польши не утратила своего значения. Здесь, и только здесь, в многочисленных старых дворцах польской знати, по-прежнему определялся политический курс страны. В Кракове не говорили громко, однако и тихий этот голос был слышен в Варшаве, которую многие презрительно называли деревней. Статус истинной столицы ей нужно было еще завоевать. Так вот именно из славного Кракова Лев Сапега и услышал голоса, насторожившие его. А голоса слушать он умел.
Московский думный дьяк Игнатий Татищев, поговорив с царем Борисом, заставил-таки кое-кого в Польше задуматься о разумности Сигизмундовых начинаний с царевичем Дмитрием. Пути дьяка Игнатия в Польшу были тайными, однако не тайным, но явным объявился вдруг в Кракове разговор, что-де неплохо в Московии посадить царя, который бы выглядывал из-под руки короля польского, но как бы из того конфуза не получилось. Дальше больше: заговорили, что делом тем неверным Польшу подвести можно к суровым испытаниям. Тут-то и названо было имя Льва Сапеги. И сказано было твердо: он, Лев, вечный ненавистник Московии, вместе с лукавым иезуитом нунцием Рангони, ищущим только интересы папы, толкнули на то легкодумного Сигизмунда. Политическая жизнь — игра, в которой проигрывают раз. Отыграться за этим столом дают редко, а может, и вовсе не дают. Лев это знал и поспешил в Краков. «Королей прощают, — подумал он, садясь в карету, — но никогда не прощают тех, кто сдавал им карты в политической игре». Больше иного Льва Сапегу насторожило известие, что в Кракове по тайному сговору съехались многие влиятельные лица Польши, а среди них Станислав Варшидский, коштелян варшавский, и Илья Пелгржимовский, писарь Великого княжества Литовского, с которыми недавно Лев Сапега был в Москве с посольством. А эти люди знали много о нем. Подтолкнуло в дорогу Сапегу еще и то, что предстояло зимнее заседание сейма, а это означало — голоса, пока еще глухо раздающиеся в старой столице Польши, могут загреметь во всю силу в сейме в Варшаве. А какими они будут? Нет, коней надо было закладывать, и закладывать срочно. Так Лев Сапега оказался в Кракове. В какие двери стучаться, он знал, и открывались они перед ним, великим канцлером литовским, легко, однако двери-то вот открывались, но души человеческие… С этим было сложнее. Впрочем, какие души у власть придержащих? Душе в этих людях места мало. Здесь есть интересы, выгоды, роли. И как ни осторожен, дальновиден и опытен был Лев Сапега, но многого не вызнал. Говорили, да, говорили — опасное-де предприятие с царевичем Дмитрием и многим грозить может, подумать-де, подумать надо, поостеречься… Да, говорили, сейм будет, будет, и паны свое скажут, но да вот что скажут, оставалось туманным. Лев Сапега маялся в разговорах, однако главного узнать не мог. И только пан Пелгржимовский — обжора и выпивоха, — съев и выпив столько, что хватило бы с лихвой на добрый десяток неслабых шляхтичей, сказал:
— Тебе, Лев, ответ держать, коли дело с царевичем Дмитрием провалится, так как ты тому потатчик не из последних.
Вот так вот, и не иначе.
Сидели они за столом. Сказав сии слова, пан Пелгржимовский беспечально ухватил добрую ножку индюшки и впился в нее до завидного белыми, крепкими зубами. Лев Сапега губу прикусил. Пан Пелгржимовский хрустел костями. Славно это у него получалось. Ах славно… Сказал вот и закусывает. Святая простота… Но только глаз отчего-то пан Пелгржимовский после сказанного на Льва Сапегу не поднял. Жевал, жевал, из кубка отхлебнул и опять за индюшку принялся. «Нет, — подумал, не отводя взгляда от пана Пелгржимовского Лев Сапега, — какая уж простота… Здесь другое. Сказаны эти слова мне в предупреждение. А зачем? Да и кто предупреждает меня?»
Было над чем задуматься.
Пан Пелгржимовский доел индюшку, поднял кубок с вином и, протянув его навстречу кубку Льва Сапеги, сильно ударил стеклом в стекло. Звон этот тревожным колоколом отдался в груди литовского канцлера.
В тот же день Лев Сапега написал письмо Юрию Мнишеку.
Тени от пламени свечи шатались по стенам, плясали, вызывая беспокойство, скрипело перо. Лев не раз вставал от стола, ходил по палате. Трудно было ему писать пану Мнишеку, но канцлер литовский понимал, что иного выхода нет. Горела у него в груди ненависть к московитам, вставали в памяти обиды, понесенные от Москвы, однако вновь и вновь слышал он сказанное паном Пелгржимовским: «Тебе, Лев, ответ держать, коли дело с царевичем Дмитрием провалится…»