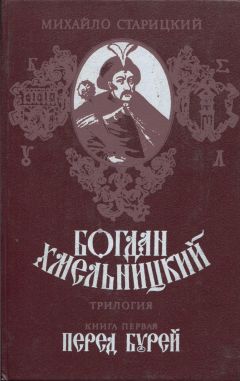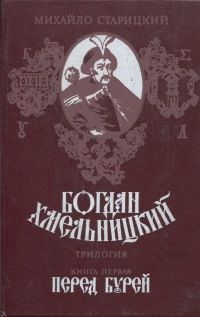— Э, нет, батьку! На хуторе хорошо, а если на Запорожье — хоть сейчас понесусь!
Оксана с отчаяньем закусила губу.
— Молодец ты у меня, знаю; затем-то и выбираю тебя. Да и без того пора уже до коша. А ты, сынку, еще погоди, — обратился он к Тимошу, — тебе еще на Запорожье рано, а даст бог, побываем там с тобою вместе.
— Эх, кабы привел господь! — вырвалось у Ганджи и у нескольких козаков.
— У бога милости много! — кивнул дед седой головой. — А что, пане господарю, не слыхал ли где чего? Тут к нам один безрукий приходил, говорит, что это его так Ярема покарал: такое рассказывал, чего и мои старые уши отродясь не слыхали.
— Правда, диду, слышал и я... ну, да не век же королятам и своевольничать: урвется когда-нибудь им нитка.
Все эти недоговариваемые намеки интриговали еще больше слушателей.
— Да что ж это у нас порожние кубки? Гей, Ганно, прикажи-ка меду внести!
Ганна поднялась было с места, но Оксана сорвалась раньше ее.
— Я схожу, панно Ганно, — шепнула она и, не дождавшись даже согласия, опрометью бросилась за дверь.
И было как раз впору, потому что слезы висели уже у ней на ресницах. Очутившись в сквозных сенях, она бросилась прямо в сад, не подумавши даже отдать распоряжение насчет меда. Одно желание — скрыться от всех, убежать в такую гущину, где бы никто не отыскал, толкало ее, и она бежала через сад так поспешно, словно ее догонял кто-нибудь.
Ночь стояла теплая, лунная, чарующая... Стройная тень девушки быстро мелькала мимо кустов и деревьев и, наконец, остановилась на самом краю левады, там, где она уже примыкала к открытой степи... И хороша же была степь в эту летнюю лунную ночь!
Полный месяц с самой вершины неба усыпал ее всю мелким, ажурным серебром. Трещание цикад и кузнечиков наполняло воздух какой-то нежной, усыпляющей мелодией. Запах свежих трав и диких цветов разливался над всей поверхностью теплой волной. Но ничего этого не заметила Оксана. Как подстреленная птичка, упала она ничком в землю и залилась слезами. Они давно текли уже по ее щекам, а теперь хлынули неудержимо с громким всхлипыванием. Оксана плакала, припавши головою к коленям; иногда она раскачивалась, как бы желая сбросить с себя часть тягости, душившей ее.
— Не любит, не любит, не любит! — повторяла она сама себе. — А я — то, я — то, дурная, поверила тому, что он любит меня! На Запорожье собирается, с радостью полетит... Когда бы хоть трошечки любил, зажурился б, а то... Ох боже ж мой! Боже ж мой! — закачалась снова Оксана, прижимая руки к лицу. — Да и за что ему любить меня? Что я такое? Он козак, а я... так себе, бедная дивчына... ни батька, ни матери... сирота, приймачка... Он, верно, шляхтянку какую возьмет, а я... Ох, какая ж я несчастная, какая я несчастная! Нет у меня ни одной своей души на целом свете! — и слезы из глаз Оксаны полились еще сильнее, и чем больше она плакала, тем все жальче становилось ей самое себя, тем горьче лились ее слезы. Вдруг не в далеком от нее расстоянии раздались чьи-то поспешные шаги.
— Оксано, где ты? — послышался негромкий оклик, но Оксана не слыхала его.
— Боже мой, боже! — шептала она, покачиваясь всем туловищем. — Да лучше ж мне умереть, чем так жить.
Темная фигура козака уловила направление, по которому неслись громкие всхлипывания, раздвинула кусты и вынырнула на освещенную месяцем площадку. Девушка сидела на траве и так жалобно всхлипывала, что у молодого козака сжалось сердце.
— Оксанко! — произнес он негромко, подходя к ней и дотрагиваясь до ее плеча.
— Ой! — вскрикнула не своим голосом Оксана, подымая голову, и, заметивши Морозенка, в одно мгновение закрыла ее снова и фартуком, и руками.
Олекса заметил только большие, черные, полные слез глаза и распухшее от рыдания личико девочки.
— Оксано, голубочко! — опустился он рядом с ней на траву. — Я уже давно ищу тебя. Скажи мне, может, тебя обидел кто?
Прошло несколько секунд, но Олекса не получил никакого ответа. Наконец, из-под фартука раздался голос, прерываемый непослушным всхлипываньем:
— Это я... руку... ударила.
— Руку? — переспросил Олекса, и по лицу его пробежала лукавая усмешка. — Покажи-ка мне где? — Но так как Оксана руки не давала, то он взял ее силою; но, осмотревши всю смуглую ручку, не нашел на ней никакого знака. — Оксано, неправда твоя!.. — произнес он с укором. — Скажи ж мне, чего ты плакала, а?
Оксана попробовала было вырвать свою руку, но Олекса держал ее крепко и сильно.
— Пусти меня! — рванулась она, чувствуя, как на глаза ее навертываются слезы. — Никому до меня дела нет!
— Нет, не пущу, покуда ты не скажешь!
— Пусти! Баба сердиться будет!
— Я ведь завтра на Запорожье уезжаю!
При последних словах Олексы плечи Оксаны задрожали снова.
— Слушай, Оксано, — заговорил он мягко, охватывая ее плечи рукою, — или тебя кто обидел, или у тебя на сердце есть какое-то горе... Отчего же не хочешь ты со мной поделиться? Разве я чужим тебе стал? Разве ты от меня отцуралась?
— Не я, не я! — вскрикнула, захлебываясь слезами, Оксана.
— Так кто же тебя против меня наставил?
— Ой боже мой, боже мой! Не могу я, не могу! — всхлипывала и ломала руки Оксана.
— Видишь ли, какая правда, — произнес Олекса с горьким укором, — я все тот же, а ты... вот не можешь и правды в глаза мне сказать... забыла, верно, то время, когда жили вы еще с батьком в Золотареве.
Сердце Оксаны забилось быстро и тревожно, как у испуганной птички. «Господи, да неужели, неужели?» — пронеслось в ее голове.
Олекса сам помолчал, как бы желая преодолеть охватившую его вдруг робость. И затем продолжал снова:
— Я завтра еду на Запорожье; кто знает, когда и вернусь теперь... хотел спытать тебя, помнишь ли ты то, о чем обещались мы друг другу, когда еще были детьми?
И какой-то непонятный ужас, и нежданная радость оледенили вдруг все члены Оксаны; только в голове ее быстро-быстро, как блуждающие огоньки, замелькали пылающие слова: «Господи! Счастье, жизнь моя, радость моя!»
— Оксано, что ж ты молчишь или забыла совсем? — продолжал Олекса, стараясь заглянуть ей в лицо; но смуглые ручонки прижались к лицу так судорожно, что он оставил свою попытку.
— Помню! — раздалось, наконец, едва слышно из-за сцепленных пальцев.
— Так скажи ж мне, — продолжал он смелее, — повторишь ли ты теперь то, что сказала тогда? — и в голосе Морозенка послышалось подступившее волнение.
Оксана молчала.
— Скажи же мне, — продолжал он уже смелее, — согласна ли ты ждать меня, пока я вернусь из Сечи значным козаком? Ну, а если... все мы под богом ходим, на войне...
— Умру! — вскрикнула Оксана и судорожно, громко зарыдала, припавши к его груди.
— Оксано, голубочко, так ты любишь меня? — вскрикнул Олекса, горячо обнимая ее и хватая за руки. Упрямые руки уже не сопротивлялись, и перед Морозенком предстало заплаканное личико с растрепанными локонами волос. — Так ты любишь, ты любишь меня?
Вместо всякого ответа личико спряталось у него на груди.
— Скажи ж мне, ты любишь, кохаешь меня? — продолжал пылко козак.
— У меня нет никого на свете, кроме тебя, — раздалось едва слышно, и головка прижалась к нему еще беззащитней, еще горячей.
— Дивчыно моя! Радость моя! Счастье мое! — прижал ее к себе Олекса. — Так ты будешь ждать меня, и год, и два, и три?
— Целый век! — ответила Оксана, отымая голову.
— И никого, кроме меня, не полюбишь, если б даже я...
— Не говори так, Олексо, — вскрикнула Оксана, обвивая его шею руками, — никого, никого всю жизнь, кроме тебя!..
Олекса порывисто прижал к себе дивчыну и покрыл горячими поцелуями ее смущенное личико.
Между сбившеюся толпой на понтонном мосту через Вислу тихо пробирался на взмыленном Белаше Богдан, за ним следовали гуськом четыре козака, взятые им из Суботова.{128}
Мост гнулся и погружался в воду; можно было ожидать ежеминутно, что он разорвется и сбросит с себя в мутные, беловатые волны реки и всадников, и пеших, и сидящих в рыдванах пышных панов, и разряженных паней. Понуканья, визги, крики, проклятия и брань висели в воздухе и, перекрещиваясь, сливались в какой-то беспорядочный гул.
— Сто дяблов им рогами в печенку! — кричал посиневший от ярости упитанный пан, стоя в колымаге и грозя кулаками в пространство. — Гоните лайдаков канчуками, бросайте моею рукой к дидьку их в Вислу!
— Набок! Набок! — орали усердные панские слуги, расталкивая и награждая тумаками прохожих. — Дорогу ясновельможному пану Зарембе!