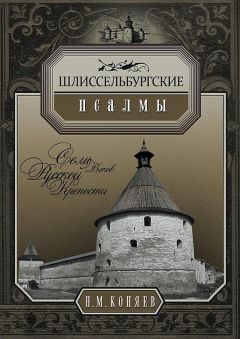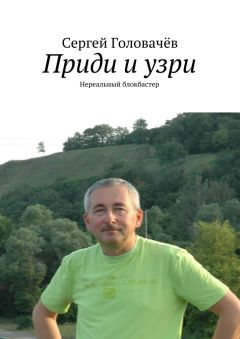Облака пыли стремительно приближались к берегам Красивой Мечи, а над ее берегом, блистая бело-золотым оперением, разворачивался косяк лебедей, направляясь в сторону Дона. От чистейшей золотой белизны птиц, таких далеких, мир показался Мамаю особенно чужим и страшным, потому что не было в этом огромном мире уголка или норы, где он мог бы посчитать себя в безопасности. Ведь он уже не мог стать ни охотником, ни табунщиком, ни простым воином, даже обыкновенным мурзой, — он мог жить и выжить только повелителем Золотой Орды, обладая всем тем, что дано повелителю. Во всяком другом положении ему не будет пощады от бессчетных врагов, которых нажил, пробиваясь к власти. Он так и не бросил в бой сменную гвардию, чтобы остановить бегущих на рубеже Красивой Мечи. Уже за рекой, направляя отряд в сторону заката, туда, где не было следов Орды, вспомнил, весь похолодев: «Дочь!» Его дочь, не способная даже встать на ноги, осталась в лагере. Но тотчас вскричало другое: «Жить!.. Выжить и отомстить!..»
Мамай не повернул назад своего грозного отряда, встречи с которым больше всего опасался и желал князь Хасан, присоединившийся к погоне, когда большой полк выровнял крыло и русские пешцы оградили место, где упал Димитрий со своим последним стражем Васькой Тупиком. По пути Хасан, отлично знавший Орду, сумел заскочить со своим отрядом в двадцать мечей в заводной табун, и воины поменяли коней. Кони плохо слушались русских всадников, потому что не знали русского языка, но несли бешено и неутомимо знакомым им путем, и скоро Хасан оказался среди головных русских сотен, скакавших с обнаженными клинками. Рубили отставших врагов без пощады, хотя редкий сопротивлялся, — некуда было девать полоненных. Белая ферязь Боброка-Волынского летела среди стальных панцирей двадцатилетних рубак передовой сотни, к ней пристал Хасан со своими конниками, но впереди, за оседающей пылью, в пестрой массе бегущей Орды нигде не мелькали алые халаты сменной гвардии…
Сначала за пылью появились огромные ордынские стада. Напуганные бегством тысяч всадников, с ревом метались быки и верблюды, носились по степи обезумевшие табунки лошадей, к которым приставали оседланные кони, потерявшие всадников, овцы сбивались в крикливые плотные отары, давя ягнят, злобные сторожевые псы с яростным лаем бросались на проносящиеся отряды, многие, жалко визжа, тут же гибли под копытами. И почти от каждого стада бежали навстречу русским обросшие худые люди, одетые в рвань. Иные плача, иные смеясь, они, как детей, несли на руках деревянные колодки, прикованные к ногам железными цепями. Каждый русский ратник готов был прижать к сердцу ордынского невольника, но еще не было закончено великое дело, и сотни проносились мимо. Тогда невольники стали искать потерянное воинами оружие, помогая друг другу, рубили и расклепывали позорные цепи. Какой-то воевода с небольшим отрядом всадников задержался около кучки освобожденных, крикнул:
— Ребята, ловите коней, сбивайте стада в гурты и гоните к Непрядве — тем вы делу нашему пособите! А праздновать встречу будем после!
Воины бросали невольникам кинжалы, напильники для заточки оружия, чтобы те легче справлялись с цепями.
…Хасан первым заметил поблескивающий в лучах закатного солнца золоченый шатер, на скаку приблизился к Боброку и указал мечом.
— Давай туда, князь! — крикнул воевода. И — ближнему сотскому: — Олекса! С тремя десятскими — за князем Хасаном! Помоги ему все там взять и ничего не трогать…
— Возьмем и не тронем, княже! — Олекса ослепительно сверкнул белозубой улыбкой на Хасана и повернул за ним своих воинов.
Боброк продолжал вести русские дружины по следам Орды — мимо брошенных юрт, опрокинутых кибиток, потухающих костров, над которыми покачивались от конского топота черные котлы с варевом. Во многих юртах, за опрокинутыми кибитками плакали покинутые дети, женщины и больные, ожидая смерти, но русские не обращали на них внимания, не приглядывались к добыче; двумя широкими волнами они пронеслись через лагерь за Красивую Мечу, где находилась вторая половина ордынского становища, в основном успевшего сняться и убежать вслед за воинами.
Человек не может бояться все время, страх и любопытство живут рядом — скоро из-за пологов юрт, из-под телег начали высовываться неумытые рожицы, там и тут заблестели темные глаза женщин, еще не высохшие от слез. Было пусто и тихо, шум погони пропал за рекой, степь открыта на все четыре стороны — беги! Но те, кто мог, убежали, а кто не мог — тому и в просторной степи нет дороги. Люди стали опасливо выходить наружу, потерянно бродили по лагерю, иные зачем-то собирали и складывали на повозки опрокинутые вещи. Испуганно разбежались, едва появился новый большой отряд войск, попрятались в свои углы; оттуда снова полился вой и плач, но уже не такой громкий. Отряд остановился посреди лагеря, молодой начальник тысячи, коренастый, степенного вида, соскочил с лошади, заглянул в пустой сумрак ближней юрты, обвел взглядом весь огромный лагерь, отдельные курени которого терялись вдали по берегу.
— Эко добра-то побросали!
— Ихнее главное добро, боярин, эвон в степи пасется.
— Было ихнее, стало наше. Однако и тут есть чем поживиться. Охотники пограбить найдутся и среди наших.
Лицо боярина стало озабоченным, он подозвал сотских, указал, где расставить стражу, велел осматривать и налаживать повозки, собирать тягловых лошадей и быков, разбросанное добро грузить и не потакать любителям поживы.
— Однако вой слышу, а живой души не видать.
— То бабы и ребятишки ихние, попрятались от страха.
— Ну-ка, кто по-татарски может, покличьте — пусть выходят. Да скажите — мы с бабами и детьми не воюем.
Скоро к боярину отовсюду потянулись пугливые женщины, старые и молодые, в цветных халатах и шароварах, в тюбетейках, расшитых стеклянным бисером, с монистами на шее и вплетенными в мелкие черные косы. Многие держались за руки ребятишек, как за спасительные талисманы. Опущенные, прикрытые ресницами глаза, в фигурах — покорная готовность исполнить любую волю новых господ.
— Вон сколько вас, сирот покинутых! — усмехнулся боярин. — По всему-то стану, поди, целый улус наберется. Придется в Москве ордынский посад строить. Чего молчите? В Москву ведь собирались… Будете в Москве, теперь уж точно.
Воины смеялись, полонянки робко поднимали глаза — такой добродушный смех не может сулить беды.
— Скажите, толмачи, бабам — пусть помогают грузить телеги да костры раздуют. Я велел стадо баранов побольше пригнать, вои наши скоро воротятся — чтоб всем угощения хватило.
— Не промахнись, боярин, — остерег пожилой сотский. — Как бы в котлы яду не подсыпали?
— Проверим. Они первыми из своих котлов угостятся. Да на что этим-то горемычным травить нас теперь? Орда Мамая ушла, а брось мы их тут одних, посередь степи… Ну-ка, спроси — согласны ли они сами остаться?
Толмач перевел, женщины растерянно переглядывались, потом испуганно замотали головами, затараторили: «Москва, якши Москва!»
— То-то, — сощурился боярин. — Во чужую орду — хлебать беду, это они получше нас знают. Давай-ка, орда, за дело, скорее в Москву попадешь! Да поласковей пусть победителей привечают, на пользу пойдет.
Хасан первым взлетел на холм, спрыгнул с лошади, осторожно приблизился к золотому шатру, одолевая трепет. Выйди сейчас Мамай, глядишь, колени сами подломятся и про меч забудешь. Трудно мстить повелителям, кланяться им куда легче. Мечом осторожно раздвинул полог, еще осторожнее заглянул внутрь. Ковры, застеленное коврами ложе, подушки у стенок, одежда и оружие, развешанные на серебряных крючках, вшитых в толстый, стеганый шелк, маленький золотой трон, осыпанный драгоценными каменьями, у изголовья ложа… Сзади наперли, сотский Олекса пытался пролезть в шатер, но Хасан властно остановил его:
— Нельзя, боярин!
— Што там, тигра?
— Хуже, боярин.
Осматриваясь, Хасан внезапно оцепенел. Поднял руку, провел по глазам, но видение не пропало: в трех сотнях шагов от вершины холма, в лощинке, среди молодых березок пряталась знакомая пестрая юрта Мамаевой дочери. Двое воинов в алых халатах, подобные истуканам, стояли у входа, словно Орда мирно отдыхала вокруг. Хасан ничего не понимал, кроме того, что алые халаты не могут стеречь пустую юрту. Да и зачем юрта, если нет царевны? Или там поселилась какая-нибудь временная жена Мамая?
К холму мчались новые отряды русских всадников, и Хасан заторопился.
— Боярин, стой здесь со своими. Не входи в шатер и никого не впускай без меня!
— Да кто там, князь?
— Там может быть Ула. Она не промахивается, от ее укуса не выживают. Ждите меня!
Воины, теснясь у шатра, непонимающе смотрели на Хасана, однако объяснять было некогда, он бегом кинулся вниз, к пестрому шатру, за ним — его десяток. Нукеры, увидев порванный, запыленный пурпурный плащ, разинули рты, но тут же пришли в себя и обнажили мечи. Сзади зашелестело железо — воины Хасана тоже приготовились к схватке. Хасан остановился, заговорил: