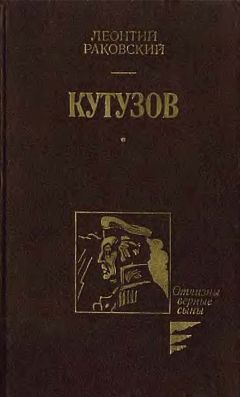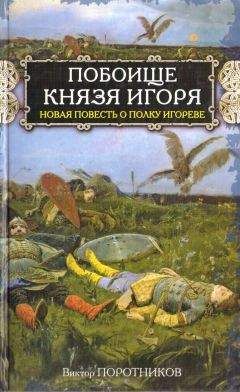"Император чрезвычайно недоволен тем, что, невзирая на строгие приказания прекратить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающихся в Кремль", — писал в приказе маршал Лефевр, командовавший старой гвардией.
Гвардейцы уже в кремлевских караулах вели себя по-своему. Они несли караульную службу со всеми удобствами. Сидели у постов, завернувшись в лисьи, собольи шубы, перевязанные кашемировыми шалями. Возле часовых стояли громадные хрустальные вазы, наполненные вареньем. Из ваз торчали золотые и серебряные ложки. И всюду виднелись горы бутылок шампанского и разных дорогих вин.
Курьер, мчавшийся с депешами в императорскую квартиру, адъютант маршала с донесением к императору, полковник или генерал, приехавшие с докладом, одинаково останавливались гвардейскими солдатами и не допускались дальше, пока не чокались с часовым гренадером за здоровье императора или "тетушки Лангула", маркитантки 1-го батальона.
Наполеон видел, как под окнами у него, шатаясь, останавливались гренадеры. Хорошо, что при Наполеоне не было женщин и ничья стыдливость не оскорблялась при этом, а многочисленные подружки и походные жены свитских генералов и офицеров смотрели на такие вольности снисходительно.
Отсутствие хлеба и избыток вина не помогали дисциплине. Она падала тем больше, чем меньше становилось хлеба и больше вина.
Ночью часовые уже не окликали прохожих.
И маршал Лефевр, которого звали "самый истинный солдат армии", напрасно изощрялся в приказах:
"В старой гвардии беспорядки и грабеж возобновились сильнее, нежели когда-нибудь, вчера в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, предназначенные охранять его особу, которые должны подавать другим пример подчиненности, до такой степени не повинуются приказаниям, что разбивают погреба и магазины, приготовленные для армии. Они дошли до такой степени унижения, что не слушались часовых и караульных офицеров, бранили их и били. Все офицеры, всяких чинов, проходя с войсками мимо императора, должны салютовать шпагой его величеству. Сегодня на разводе это не исполнялось. Герцог Данцигский, поставляя на вид офицерам такое неисполнение обязанностей, предписывает начальникам всех частей войск, чтобы они наблюдали за порядком службы".
Еще меньше дисциплины, чем во французских полках, было в немецких и итальянских частях. Солдат страстно хотел мира. Но, видя, что до мира далеко, он стал думать только о том, как бы получше насладиться настоящим.
Наполеон замечал развал армии, но не хотел признаваться в этом окружающим. Он предпочитал сидеть в Кремле и здесь же делать смотры войскам. На парады выбирались лучшие армейские полки. Их тщательно одевали и снаряжали к смотру.
Наполеон наслаждался криками: "Да здравствует император!" — криками, в которых больше чувствовалось спиртного, чем энтузиазма, и не переставал восхищаться ясными осенними днями.
— Ну, что скажете вы, любезный Нарбонн, о таких войсках, марширующих при такой прекрасной погоде? — спросил он у своего самого блестящего, самого светского адъютанта, бывшего министром у Людовика XVI.
— Государь, я скажу только, что войска отдохнули и могут предпринимать движение на зимние квартиры в Литву и Польшу, оставив русским их Москву.
Император ничего не возразил на эту довольно ядовитую, но правильную реплику.
Мысль о том, что надо уходить ни с чем из Москвы, раздражала и угнетала его.
IV
Наполеон молчал.
Он никогда не был разговорчивым, а в последние дни жизни в Москве совершенно замкнулся в себе, стал как-то особенно холоден и сух в обращении с окружающими, не шутил с Бертье по поводу его легкомысленной жены, а одеваясь, не трунил над своим пополневшим животом. Работая в кабинете, он угрюмо молчал, мучительно думал все об одном. Маршалы и генералы стояли по целым часам, не проронив ни слова, ждали, когда император заговорит с ними сам. А он, насупив брови, ходил из угла в угол или бросался на диван с книгой и делал вид, что читает.
Чаще, чем в других кампаниях, Наполеон страдал в Москве бессонницей. Он среди ночи вставал, надевал халат и ходил взад и вперед по кабинету. Услышав его шаги, дежурные адъютанты вскакивали, готовясь к тому, что император позовет кого-нибудь из них отдать приказ или просто поговорить.
Но император молчал, думая свою невеселую думу.
Когда же ему удавалось проспать до утра, Наполеон вставал с бледным измятым лицом, — видимо, сон не приносил ему нужного отдыха и покоя и пробуждение к той же невеселой действительности угнетало его.
По утрам Наполеон был особенно раздражителен и по пустякам набрасывался на свиту и маршалов.
Раньше его обед продолжался не более пятнадцати минут, а теперь он растягивался до полутора часов. За столом император не становился общительнее и веселее. Он сидел, словно не замечая ничего вокруг, но не уходил из-за стола. Раза три в неделю Наполеон приглашал к обеду вместе с маршалами нескольких дивизионных генералов.
Но все это ничуть не рассеивало его тяжелого раздумья.
Время шло, а от Александра I не было письма. Наполеон чувствовал, что этот византиец не удостоит его ответом.
Всем было ясно: зимовать в Москве нельзя, придется уходить, самим оставлять древнюю русскую столицу. Оказалось, что войти в нее было гораздо легче, нежели выйти из нее.
Как уйти? Как отступать, если "великая армия" привыкла только завоевывать и наступать? Это окажется бегством!
Отступление невозможно — до такой степени оно противоречило гордости Наполеона, его блестящим успехам, всей боевой полководческой деятельности.
И как это отзовется во Франции и во всей Европе? Оно развеет обаяние его непобедимости, ослабит узы, в которых он держит всю Европу.
Москва — это не только военная позиция, но и позиция политическая. А в политике никогда не надо отступать, не нужно признавать своих ошибок — это подрывает уважение.
Что вся русская кампания была сплошной ошибкой, он уже ясно видел. Савари мог не подсказывать императору, что "неосторожно было так далеко углубляться в Россию!".
Войска еще не утратили веру в Наполеона, они привыкли к его непогрешимости. Они видели, понимали сложность положения армии, но надеялись: император все предвидит, всегда найдет выход из любого обстоятельства.
И Наполеон тщетно искал выход.
Император приказал каждый вечер зажигать по две свечи около его окна, чтобы солдаты говорили: "Смотрите, император не спит, он заботится, думает о нас! Он всегда за работой!"
Для того чтобы поднять дух войск, Наполеон заплатил жалование армии русскими медными деньгами, которые никто из солдат не хотел брать, и сфабрикованными по приказу Наполеона фальшивыми русскими ассигнациями, от которых было столько же проку, как от медных. Солдаты ничего не покупали, а все, что попадалось, брали бесплатно, и обманывать, в сущности, было некого.
Через Бертье и маршалов Наполеон велел распустить разные слухи, чтобы хоть немного успокоить возбужденных солдат.
То говорили о походе в Индию, прельщали сказочными богатствами этой чудесной страны, и солдаты гадали, за сколько месяцев будут доходить из Индии письма во Францию. То утверждали, будто маршал Макдональд взял приступом Ригу, захватил и сжег Петербург, а русский император Александр I умер от огорчения. Другие спорили, говоря, что не Макдональд взял Петербург, а шведы, и что Александр I вовсе не умер, а удрал в Сибирь. И все божились, будто из Вильны идут новые дивизии маршала Виктора с зимней одеждой, хлебом и что к весне в армии будет снова шестьсот тысяч человек, как при переходе через Неман.
Болтуны и легковеры хвастались:
— Если русские не заключат зимой мир, то Наполеон прогонит их в Азию, восстановит Польшу, устроит новые герцогства: Смоленское, Петербургское, Курляндское, Московское.
Более предусмотрительные и благоразумные отвечали на это так:
— Зачем нам Виктор, когда самим здесь нечего жрать?
— Наши беды только начинаются, а впереди — зима!
Наполеона угнетало то, что он не имел никаких сведений о России. Все его шпионы — генерал Сокольницкий, Даву и лейтенант легкой гвардейской кавалерии Вандернот, который следил за поляком Сокольницким, — не могли доставить свежих новостей.
Наполеон считал русскую кампанию наиболее тщательно обдуманной и подготовленной, а на деле получался провал.
Чтобы успокоить армию, отвлечь ее от невеселых мыслей, Наполеон велел организовать в Москве театр из оставшихся актеров французской труппы. Театр устроили на Никитской в великолепном доме Позднякова, уцелевшем от пожара, но, конечно, разграбленном дочиста. Актеры и актрисы, ограбленные своими же земляками, были одеты кое-как, занавес сшили из парчи, вместо люстры повесили паникадило, взятое из собора, мебель натаскали из дворцов. В театре ставились легкие пьесы: "Игра любви и случая", "Три султанши", "Притворная неверная" и другие.