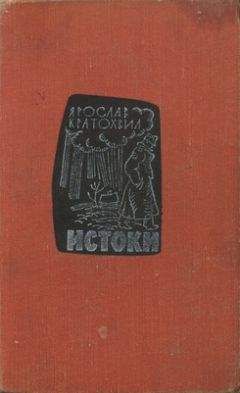— Аминь! Дай-то господи! — И ничуть не смутившись замешательством, вызванным его словами, столь же громко обратился к Мартьянову: — Вот она где, правда-то! Вот в чем будет истинная революция!
Добровольцы, по знаку коменданта, преклонили после этого колени.
Когда все эти церемонии закончились, полковник Гельберг обратился с речью к русским офицерам и к взводу солдат, а капризный ветер, порхавший над акациями, над запыленным базаром, играл его словами. Полковник закончил здравицей:
— Да здравствует великая свободная Чехия! Да здравствует великая победоносная Россия!
Прозвучало троекратное:
— Ура!
Но только задвигалась праздничная толпа вокруг добровольцев, как в торжественную атмосферу, будто камень в цветочную клумбу, бросил кто-то через цепь милиционеров враждебный выкрик:
— Долой войну!
Выкрик ужалил переполненные сердца, но тотчас утонул в троекратном «ура», которое по знаку коменданта прокричал почетный взвод, поддержанный офицерами, а там и всеми чисто одетыми штатскими.
Отряд добровольцев отвели дальше от собора, на середину площади, а там госпожа Галецкая, которую сопровождал комендант, вручила чешским героям трепещущее красное знамя, прожженное большой белой надписью:
ВОЙНА ДО ПОБЕДЫ!
Сама Галецкая была вся в белом, она улыбалась, как гимназистка, и без запинки выпалила свою речь. Ветер озорно прижимал легкую ткань платья к ее хрупкому, но округлому телу.
Фишер шепотом попросил Томана как председателя организации ответить, но тот все колебался, пока слово не взял Петраш. Тогда Томан опьяненно подумал: «Ах, теперь уже все равно, все равно…»
Однако голос Петраша был слаб и сух для такого большого жадного пространства.
В заключение церемонии полковник Гельберг расцеловался с каждым добровольцем, чем совершенно смутил их. Они целовались неловко.
За полковником к чехам полезли все прочие, и впереди всех — прослезившийся Трофимов и сияющий Мартьянов, а за ними целая гурьба знакомых и незнакомых.
Тем временем Гельберг высматривал удобное местечко для фотографа, который метался перед ними. А добровольцам не терпелось двинуться наконец в путь с какой-нибудь воинственной песней.
Наконец полковник, с Петрашем по одну сторону и с Томаном по другую, лично повел доблестный чешский отряд к вокзалу. Несколько раскрасневшихся гимназисток сунули им на ходу цветы. Другие, опасаясь попасть в давку, бросали букеты чехам под ноги. Толпа людей попроще, которую к добровольцам не подпускала милиция, забегая вперед, кинулась наперерез через сквер.
Белые сжигающие буквы красного знамени, очутившегося теперь в руках Фишера, кричали на всю улицу. Но вот над головой Благи заплясало чешское, красно-белое знамя, и, как волна под ударом ветра, взметнулось по-чешски «Гей, славяне!».
Чехам казалось, будто весь город, все люди, все дома сдвинулись с места под их напором и поплыли, как судно под раздутыми парусами и как вода, увлекаемая его движением. Всем, всем кричали они свое:
— Наздар!
Кричали всем равнодушным и безучастным зевакам, всем ротозеям, всем чисто одетым и оборванным, всем чиновникам, которые с важностью останавливались на тротуаре, всем торговцам, которые, сияя, выходили из лавок, всем деревенским телегам, которые уступали им дорогу, всем лицам — красным, вспотевшим, запыленным, жарившимся под августовским солнцем, равно как и напудренным, гладким личикам женщин. Мальчишкам они раздавали на память красно-белые банты, те дрались из-за них, и босые, но с нацепленными бантами, они козыряли чехам, выстроившись в ряд. Мальчишки тоже кричали: «Наздар!» — и снова бежали впереди отряда, поднимая босыми ногами пыль.
Все эти крики даже согнали с места старика, торговавшего семечками на краю деревянного тротуара.
Базар, битком набитый людьми, всполошился от песен «Есть и буду славянином» и «Четвертое июля».
Русские солдаты, тайно продававшие здесь казенные сапоги и гимнастерки, подошли вместе с милиционером, который только что собирался арестовать их.
— Что за демонстрация? — спросили они мужика, который отделился от толпы провожающих, с широкой улыбкой гаркнув еще разок: «Ура!»
Мужик вместо ответа сказал:
— Да пущай себе повоюют! Наши устали, да и земля ждет…
— Это чешские революционеры, — авторитетно объяснил милиционер.
— Австрияки! — поправил его кто-то.
— Эх, им ведь тоже война надоела, — вздохнул мужик с семечками, почесывая лохматую голову.
В углу базара возникла вдруг тихая свалка. Томан разглядел, что там били и волокли по земле какого-то солдата. Битый молчал, упирая взгляд в одну точку; спокойно одной рукой он закрывался от ударов, а другой ловил конец развязавшейся обмотки. Томап раза два оглянулся, пораженный: в битом он узнал Куцеволу.
Потом их догнал знакомый военный писарь и, еще не отдышавшись, весело объяснил:
— Дезертир! Агитатор! Ничего… получил что надо! Я ему дам! Ишь, война, мол, не нужна!
Вагона, заказанного для чешских добровольцев, на станции не оказалось; расстроенный начальник станции пожимал плечами. За каждым шагом чешского отряда, за раздражением полковника Гельберга, за озабоченностью Мартьянова и Трофимова увязывалась толпа любопытных.
Наконец у платформы пакгауза случайно нашли два товарных вагона, только что разгруженных. Добровольцы заняли их, не раздумывая, что было с благодарностью воспринято всеми присутствующими. Подводу с вещами офицеров, давно стоявшую у вокзала, подогнали к пакгаузу и в минуту разгрузили.
Между тем комендант узнал, что отправка будет не ранее, чем после трех часов дня. Осторожно, с искренним сожалением сообщил он эту новость добровольцам и вскоре стал прощаться. Растроганные Мартьянов с Трофимовым в последний раз обняли своих чешских крестников и их товарищей и ушли вместе с полковником Гельбергом.
Добровольцы с облегчением вздохнули.
Только теперь, оставшись одни, они могли на покое взвесить и обдумать свой успех. Только теперь они могли вполне насладиться опьяняющей свободой.
Давно не видели они свободной жизни.
По путям со свистом и грохотом пробегали паровозы, полуденный ветер клоками отрывал дым от их могучих корпусов, унося его в синеву неба, и во все стороны открывались дали. Вокзал был воротами в вольный мир.
Первым делом добровольцы тщательно подмели вагоны и переложили поудобнее вещи. Потом прибили снаружи знамена: оба — с одной стороны, так, чтобы белые русские буквы на багряном поле — «Война до победы!» — взывали к спешащим встречным поездам. Лейтенанту Фишеру при виде этих букв казалось, что у него будто связаны крылья. Потом установили очередность дежурств и высыпали на перрон.
С жадным вниманием нырнули они в этот вновь обретенный мир движения и усталости, возбужденности и сонной меланхолии. Их окружали любопытные, расступались перед ними и смыкались вокруг них; все время одни подбегали, другие отходили прочь.
На каменном полу вестибюля, где был приятный холодок, сидели или спали разомлевшие люди. Солдат, выписанный из лазарета, перематывал вонючие портянки и хвалился глубокими, до кости, шрамами. Мужик, случайно оказавшийся рядом, томясь в ожидании, слушал его без интереса и молча отошел, как только появились чехи.
Зал ожидания третьего класса с пустым, хоть шаром покати, буфетом был битком набит. На скамьях, на столах, на полу, всюду, в густой вони пота и махорки, — люди и вещи: крестьяне и солдаты, женщины, сушившие босые ноги, люди, заснувшие над своими чайниками, хлебом и яичной скорлупой, матери, пеленавшие младенцев, узлы и мешки. Узлами и мешками завалили стойку буфета, на которой тоже кто-то спал. Молодую женщину обнимал спящий за столом солдат, а она строила глазки казаку с буйным чубом.
Зал ожидания первого и второго класса был заперт, туда не пускали. Через стеклянные двери за пальмами и фикусами видны были мягкие кресла, серебряный блеск буфета, мраморные столы, накрытые белыми скатертями, какие-то дамы в дорожных плащах, офицеры и солидные господа над тарелками, погруженные в важные разговоры.
От этого зрелища чешские добровольцы почувствовали голод, но к своим запасам на дорогу они не притронулись — решили отметить этот день обедом в ресторане. Страж у стеклянных дверей охотно, с поклоном, впустил их, ловко выхватив при этом мощной дланью какого-то солдатика, который спросонья ткнулся было вместе с ними в открытые двери.
— Эй, гражданин, куда? Здесь тебе делать нечего!
Зато он почтительно улыбнулся чешским офицерам, и они сразу ободрились, ощутив атмосферу давно не виденного, нерушимого порядка. Петраш нарочно, чтоб слышал Томан, ядовито сравнивал «революционную свободу» третьего класса с этим «контрреволюционным порядком».