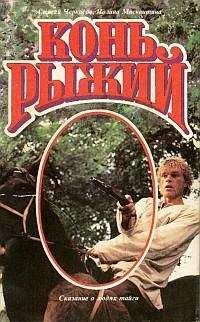– Тааак! – протянул Ной Васильевич, резанув злеющим взглядом мордастую дочь Подшивалова. – Сходи с крыльца, стерва! Живвво! А ты, хозяин, расчет получишь по второму номеру. Сей момент выведи мово коня, оседлай, а ты, старуха, вынеси мои вещи в мешке из горницы, и ежли замечу пропажу – расстреляю всех до единого!
– Помилуй нас! Помилуй нас! – заголосила хозяйка.
– Урядник Сазонов, приступай к экзекуции подлой твари. Двадцать пять плетей! Ложись, гадина, на крыльцо, да платье задери, чтоб сидеть не на чем было недели две опосля!
Мордастая, толстозадая Устинья Мироновна всеми богами клялась, что донос она написала под диктовку есаула Потылицына, который лечится в городской больнице, и пусть ее помилует господин хорунжий: она за него молиться будет. И что сегодня утром, когда в больницу доставили с Качи проклятых большевиков, порубленных доблестными казаками, она, Устинья Мироновна, находясь на дежурстве, такую оказала «первую помощь» еще живому Марковскому, что он быстро испустил дух.
– Кишки я ему втолкала в брюхо вместе с грязью! Еще доктор Прейс, жидюга, выговор мне сделал, – выворачивалась фельдшерица, чем еще пуще взбесила Ноя. Это же надо! «Кишки вместе с грязью втолкала в брюхо!»
– Лооожись, гааадинааа! – трубно взревел Ной Васильевич, выхватив кольт. – Или пристрелюууу!
– Погодь, господин хорунжий! – остановил Сазонов, умудренный в таких делах. Он не раз участвовал в порках.
Сазонов выволок на середину ограды деревянную скамью, старательно привязал к ней не сопротивляющуюся Устинью, задрал ей платье, закинув на спину. И Ной, выхватив у него плеть, в ярости врезал по трусам Устиньи и передал плеть Сазонову.
– Пори!
Тем же манером привязали и отпотчевали Мирона Евсеевича – двадцатью пятью плетями, чтоб впредь неповадно было писать доносы.
Приторочив свои вещи в мешке к седлу Воронка, лоснящегося от сытости, Ной не забыл и о расчете. За коня уплачена, как ему известно, рыночная цена, сотня, да пускай еще пятьдесят седло, за поездку в станицу Есаулову еще пятьдесят – двести, а дал триста, да пятьдесят за квартиру.
– Сто пятьдесят рублей верните сей момент!
Старуха вынесла деньги.
– А теперь упреждаю: если еще раз напишете донос – со всем домом будете сожжены. Это будет раз. Я покажу вам, как клеветать на белых офицеров! Мы вам не большевики. Разговор у нас самый короткий: одно слово супротив – к стенке или на телеграфный столб.
Шли дорогою мимо кладбища. У Ноя скребло: как же поступить с Сазоновым? Он же должен убрать его! Надо бы свернуть влево к старице Енисея, шлепнуть и с крутого берега кинуть вниз. А силы нету – всю выплеснул в ярости на отца и дочь Подшиваловых. «Предателя смертным страхом не удержишь! Как только отойдет от него страх, опять будет сочинять доносы, пакость. Да ведь пятеро ребятишек у него, господи!»
– Какого возраста ребятишки у тебя?
– Старшему сыну, Николаю, двадцать пять, живет в отделе. Другому сыну – Павлу, двадцать один, ишшо не женатый. Под ними три дочери, Наталья, Ольга и меньшая – Лизаветой звать, по пятому году.
– Лизаветой? – дрогнул Ной, и сердцу больно стало: сестренка Лиза вспомнилась. Да еще безропотная жалельщица из дома Ковригиных.
Остановился. Достал платок, вытер лицо.
– Сей момент метись ко всем чертям. Чтоб духу твоего в городе не было. Замолкни! Не нуждаюсь в благодарностях и твоих молитвах. Прооочь, гааад! Бегоом!
Не задерживаясь, подхватив шашку, держа ее поперек тела, чтоб не мешала, Сазонов припустил под гору такой рысью – на коне не догонишь. Живой! Живой вырвался, слава Христе и господу богу! Живой!
Между тем Сергею Сергеевичу Каргаполову не суждено было отбыть в Туруханск к исполнению обязанностей начальника милиции туземного округа. На второй день после выдворения его из комиссариата он был убит поздним вечером в своей собственной ограде по Гимназическому переулку пулею в затылок с короткого расстояния. Убийцу никто не видел, да и милиция не очень старалась раскрыть преступление, и на том дело кончилось. Полковник Ляпунов догадывался: оскорбленный до глубины «голубой» души, князь Хвостов свершил свой скорый суд.
Догорал последними вспышками на прислоне неба этот длинный-длинный-длинный день кровавого воскресенья.
Ной так и не сел на Воронка – вел его в поводу, чувствуя себя совершенно разбитым. Только сейчас, отдыхая от всех ужасов минувшего раннего утра и вытряхивания из него, Ноя, показаний на капитана Ухоздвигова, он явственно почувствовал, что висел на волосок от смерти.
И еще подумалось Ною:
«Пузатый Каргаполов все время аттестовал Ухоздвигова «резидентом ВЧК». О, господи! Работа-то у капитана какая тяжеленнейшая! Ни единого дня без страха схлопотать себе пулю в лоб».
«Стал быть, подтянуться мне надо и быть начеку с полковниками и генералами», – обдумывал Ной, успокаиваясь. Одним разом разделался с доносчиками Подшиваловыми – хорошо! И Сазонов, должно, удует из города и глаз не покажет до нового пришествия Христа-спасителя. Вспомнив о Христе, дрогнул: что-то не слышал ни ранним утром, ни вечером колокольных перезвонов! Не может быть, чтоб в двух соборах и одиннадцати церквах служб не было в воскресенье! Или уши заложило от всех переживаньев, господи, прости меня! А ведь и господу богу давно не молился, ни в церкви, ни в соборе ни разу не побывал.
Заметно вечерело, и веяло по улицам освежающей прохладой с севера. Еще не доходя до дома Ковригиных, увидел свет в окнах. Как-то у них? Ворота и калитка были на запоре. Постучался – кобели не взлаяли: унюхали постояльца.
Подбежала Лиза, выглянула в прорезь, радостно залопотала:
– Ой, Ной Васильевич! Слава богу! Живой, живой! Слава богу! А я весь-то день-деньской на коленях стояла перед иконами: молилась, молилась, штоб живым увидеть вас, Ной Васильевич!
Ноя тронула заботливость Лизаветы, но на душе у него было тяжело после пережитого.
– Еще конь у вас? Чей? Ва-аш? Ой, ой! А Вельзевул пришел еще после обеда, да так заиржал! Ажник у меня сердце оборвалось: игде, думаю, Ной Васильевич? Вить какие казни были на Каче! Ой, ой! Василий так перепугамшись прилетел – лица не было. Сказал, што настало у белых время казней, и потому он в доме дня не задержится. Со свекором так-то ругался, так-то ругался из-за сестер! Выдавил из папаши три тышчи деньгами и коней своих взял, шмутки собрал, даже подушки и теплое одеяло – навсегда уехал, навсегда! Собирается бежать кудый-то на Владивосток со своей милашкой, которая живет у него в Николаевке. А потом и свекор до обеда уехамши на сенокос. За Коркину али за Маганск, не сказал. Токо упредил, штоб я сама тут съездила на коне Абдуллы Сафуддиновича за свежей травой для коров и козы и хозяйство соблюдала. А я и так соблюдаю.
– Ох, Лизанька, Лизанька! – вздохнул Ной, расседлывая Воронка. – О Василии не тужи. Не пропадешь. Вельзевула не расседлала?
– Дык ужасть как боюсь иво!
– Ладно.
– А за вас так-то беспокоится Абдулла Сафуддинович! Так-то беспокоится! Сам приходил два раза. Будто какой-то извозчик сказал ему, что вас самого забрали в контрразведку. Абдулла Сафуддинович подсылал туды шустрого мальчонка, штоб он разведал. И тот нарошно забросил мячик в дверь, когда офицеры бегали там, и в дом зашел. Крик слышал, не разобрал. Казак иво плетью стебанул. С того Абдулла Сафуддинович очинно встревожился. Ишшо старуха иво приходила: нет ли вас в доме?
Ной не стал пугать Лизавету: извозчик просто обознался, а он находился на вокзале у командира эшелона.
Расседлал Вельзевула. Седло сойотское положил в пустой ларь, куда хозяин ссыпал овес. Потник, как всегда, взял с собою и, когда вышли из конюшни, попросил Лизавету занести в дом мешок – он не тяжелый, а сам вынул из тайничка пачку пропусков, сунул в карман кителя. Надо спешно пойти к Абдулле Сафуддиновичу, разузнать, как там Селестина Ивановна? Может, перепрятали ее на другую тайную квартиру, тогда все слава богу.
Потник сам занес в свою комнату и сунул под перину, где и хранил его всегда: собственный банк при себе – не шутка! Разузнай о тайне Ноя Василий, наверняка бы почистил потник! На Лизавету надеялся – копейки не возьмет!
– Ужинать-то! Ужинать-то! – бегала Лизавета, собирая на стол.
– Скоро подойду. Надо сходить к Абдулле – беспокоятся же!
Головастый, белоголовый Мишенька сидел у стола на ящичке, поставленном на стул, и таким-то осмысленным взглядом посматривал на Ноя, как будто что-то хотел спросить или сказать ему о своей сиротской доле. Ной погладил его по головке, приласкал.
Абдулла Сафуддинович, в жилетке на белую рубаху и тюбетейке, встретил Ноя с не меньшей радостью, чем Лизавета:
– Ай, бай, батыр наш! Батыр наш! Я знал – батыр наш не взять белый шакала! Не взять! Такой батыр, ай, ай! Славный батыр, ай, ай! – И повел Ноя, приговаривая что-то по-татарски, на задний двор к шорной мастерской, где едва виднелся свет из занавешенных окошек.