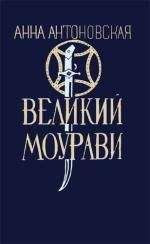С чувством глубокого смущения вошел Кайхосро в покои царя Луарсаба. Холодно блестел перламутр арабских диванов, сумрачно тускнела в нише потухшая курильница. Все здесь, казалось, настороженно следит за Кайхосро, и от этого неприятного ощущения как-то не по себе стало молодому правителю. Вон там из темного угла блеснула стеклянными глазами мертвая пантера, когда-то подаренная ностевцем Саакадзе наследнику Луарсабу и отравленная царедворцем Шадиманом. А там вон прижалась к стене персидская ваза и над ней криво повисла детская шашка. Кайхосро задумчиво шагал по голубому ковру, еще хранившему запах любимых благовоний изысканного Багратида.
Править царством — это не сражаться. Клинком взмахнул — дорогу проложил; а царство — дремучий лес с крутыми, извилистыми тропами. С той теплой ночи, когда через месяц после марткобской победы в Мухранский замок прискакал Георгий Саакадзе, он, Кайхосро, потерял покой. До самой зари дед и Моурави, запершись, беседовали. Потом Моурави исчез, а дед долго ходил помолодевший, горделивый, горящими глазами поглядывая на фрески прадедов в сводчатом переходе. За трапезой он загадочно разговаривал. И по тому, что дед подарил ему, Кайхосро, своего любимого коня с золотой отметиной и свой меч, Кайхосро понял: дед именно его благословляет на главенство в Самухрано. Но почему? Старший в роде — его отец, Вахтанг, да живет он вечно! Потом дядя Мирван, потом… Разве самое важное, что он старший внук? И при чем тут Саакадзе? И то верно: Великий Моурави всячески отличал его в Марткобской битве. Может, намерен возвести в сан полководца? Нет, рано. А дед, желая скрыть необузданную радость, продолжал ходить, сдвинув серебряные брови. Потом снова приезжал Саакадзе, и под черным щитом ночи тайно велись беседы. Затем — скрытые тьмой гонцы. Вдруг Саакадзе совсем перестал посещать Самухрано, но зачастил Дато Кавтарадзе, прибывая, как заговорщик, в полночь и исчезая под утро. И с каждым таким появлением он, Кайхосро, чувствовал приближение неумолимой судьбы. Уже не волновали запретные поцелуи служанки в густой листве аллеи, ее розовые покатые плечи; уже не прельщала скачка на диком коне; уже не торчали лихо подкрученные усики. Томило ожидание… И вот Кайхосро в смятении оглядывал царские покои Багратидов. Дед говорит: поможем. Саакадзе говорит: поможем. Настоятель Трифилий говорит: поможем. Отец, дядя — все хотят помочь. А кто из грузин не знает: хотели воробьи помочь барсуку летать, да уронили в реку. Если богом не дано — всякая помощь бесцельна. Опыт старцев, может, придет, но ликование — вряд ли.
Саакадзе облегченно вздохнул. Наконец он, полновластный хозяин Картли, приступит к устройству дел царства. Кончится навязанный войной Совет князей, церковь отойдет немного в тень. Тяжела длань католикоса… Кайхосро! Три года должен он подчиняться воле Моурави. Так условились. «И плата немалая: царский трон!» — думал Саакадзе, входя в покои правителя на первую беседу.
Фамильная гордость и мягкость подсказали Кайхосро правильное поведение. Он рассмеялся на подчеркнуто-почтительный поклон, попросил Моурави дарить ему по-прежнему внимание и наставление. Но Саакадзе желал, чтобы соблюдались веками освященные правила царского замка, особенно в присутствии князей. И, изложив начальное мероприятие об освобождении от подушного налога царских крестьян, участников войны с кизилбашами, просил обдумать и скрепить подписью указ.
Беседа была коротка, Саакадзе торопился.
Необычно в доме Саакадзе. Едва слышно ступают слуги, осторожно ставя на скатерть блюда с яствами и подносы с высокими стопками хлебных лепешек.
Мамка в черном платке, с опухшими от слез глазами, внимательно наблюдает за слугами. Она только что вернулась из Сиона. Сегодня полугодие страшной смерти Паата. Храм не мог вместить всех, стремящихся выразить сочувствие Русудан и Георгию. Мамка, расставляя на скатерти сосуды, говорила вслух сама с собою: «Святой католикос служил панихиду, хор иноков прибыл из Кватахевского монастыря. Четыре колонны укутаны в черный шелк, возле разместились княгини с траурными цветами на платьях. Слева от алтаря плакальщицы в белых покрывалах рыданием наполняли храм; справа азнауры держали вместо свечей переломленные персидские сабли. Нато Эристави рвала на себе распущенные волосы, от ее крика сокращалось пламя литых свечей. Струились слезы женщин, шумно всхлипывали мужчины. Одна Русудан неподвижно смотрела на пречистую богородицу, держащую на коленях младенца, а Георгий тяжело смотрел на коня Георгия Победоносца».
Мамка смахнула крупную слезу. «Бежан, белее воска, в монашеском одеянии, возвышается за отцом Трифилием, а Автандил… О мое дитя! Черным огнем мести сверкали его глаза!»
— Скажи Циале, пусть сегодня придет в мой дом, — шепнул Георгий при выходе из Сиона.
— Откуда узнал? — изумилась Хорешани. Она всячески скрывала приезд девушки, не желая усилить печаль друзей пространным рассказом.
— Откуда? Гиви помог тебе скрыть тайну. А о поясе осторожно намекнул: «Ты, Георгий, не удручайся, пояс Паата сохранила заботливая Циала».
Хорешани едва удержала неуместную улыбку:
— Этот кувшин — от рождения с трещиной. Хорошо — к Русудан не докатился.
— Я запретил. Но теперь, думаю, время. Пусть Русудан до конца выпьет чашу страдания. Надо помнить о живых.
— Да, Георгий, лучше, чтобы она узнала все.
Многие приехали из отдаленных замков. Некоторые воспользовались подходящим случаем оказать внимание Саакадзе, другим хотелось хоть раз видеть слезы Русудан. Но и тени нет на лице высокомерной! Изо льда сделана или из мрамора?
Русудан была со всеми любезна, с достоинством беседовала с монахами, князьями и слегка смягчалась, встречая тоскующий взгляд Циалы. Ее любил Паата…
Гости разъехались рано, их не удерживали. «Не свадьба», — холодно сказал Даутбек недоумевающему князю Джавахишвили.
Слуги закрыли ворота, погасили лишние светильники, задвинули на ставнях засовы. В комнате приветствий оставлен большой ковер, нет ни мутак, ни подушек. Сюда собрались близкие Саакадзе, съехались «барсы» с семьями и родителями. Дед Димитрия, уже слегка сутулящийся и прихрамывающий на правую ногу, поминутно смахивал набегающие слезы. Приехал Папуна, худой и молчаливый.
После марткобских дней он удалился в Носте, и ни доводами, ни просьбами, не могли заманить его в Тбилиси. Все знали — невыразимо по Паата тоскует друг. «Пусть среди ящериц успокоится», — убеждал Даутбек. «А может, Хорешани права: не следует оставлять одного?» — возражал Дато. Согласен с Хорешани был и Саакадзе: «Надо трудным делом отвлечь напрасную печаль». Но не только из-за Паата страдал благородный Папуна. Тэкле! Бедное дитя! Зачем так безжалостно ступает за ней черная судьба? Зачем на нежные плечи свалилась непосильная ноша разбитого счастья? Не задумался бы Папуна взять все невзгоды на себя. Не задумался бы жизнь отдать во имя ее лучшего дня. Он поедет в проклятую Гулаби, он сделает все, чтобы спасти светлую, подобную весеннему облаку Тэкле.
Хорешани, подавив вздох, опустилась на ковер возле неподвижной Русудан. Саакадзе дотронулся до колена Зураба и сдавленно проговорил:
— Вижу, друг, сердишься! Напрасно! Только желание не слишком обременять друзей заставляет меня иногда сохранять в тайне замыслы. А чувства мои к тебе, любимому Зурабу, известны.
Зураб низко опустил потемневшее лицо. Едва слышно потрескивали в светильниках фитили. Саакадзе испытующе поглядывал на князя. Тихо стучали черные четки в пальцах Трифилия. Мучительное безмолвие нарушил Саакадзе:
— Говори, Циала, говори все. Сейчас мы одной душой будем слушать о последнем часе незабвенного Паата. Да послужит нам гордым утешением жертвенный подвиг во имя родины. Говори!
— А может, Георгий, сегодня устала Русудан? — спросил Папуна.
— Нет, друг, есть тяжести, которые лучше сразу перенести. Говори, девушка.
Циала, казалось, вся ушла в воспоминания. Она не выронила из памяти ни одного слова, ни одного вздоха Паата. И, как молитву, передала последний день любимого:
— Когда шах-севани пришли за Паата, он улыбнулся мне: «Не убивайся, Циала, есть чувство, за которое не страшно умереть. Молодость, красота — все проходит, вечны любовь и ненависть. Научи этому своих детей…» Открыла глаза — пусто. Вошла старая Фатьма, вскрикнула: «Два дня ты в мертвом сне лежала». Я вскочила, о госпожа Русудан, не знала я, куда бежать из удушливой темноты. Пьетро делла Валле усадил меня, заставил выпить целебные капли и печально сказал: «Перестань умолять, девушка! Разве я сам не знаю, что надо делать? Мои миссионеры с трудом нашли земные останки сына Георгия, шах приказал выбросить обезглавленного Паата в грязную канаву, но, омытый и одетый во все белое, благородный картлиец предстал перед господом богом, ибо в последнее мгновенье отрекся от корана, осенив себя крестным знамением…»