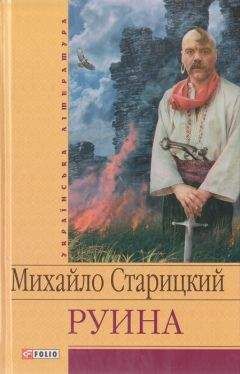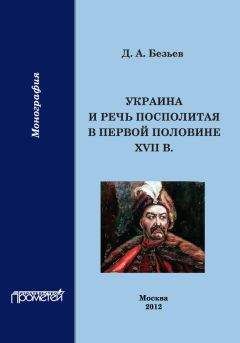— Ой, друже! Как часто и сердце обманывается! — вырвался у Мазепы горький вздох, удививший даже Марианну. — Но вот обратимся ко вчерашней раде, — зачастил он, желая скрьгть прорвавшуюся сердечную боль, — мне кажется ясно и непреложно, что Украйна без протекции существовать не может, что интересы всякого ее соседа–протектора будут клониться к полному ее поглощению и что, значит, корыстнее для нас протекция далекого царства, которое сам Господь отмежевал от нас широкими морями.
— Да ведь если через широкие моря трудно делать напасти, то так же трудно подавать и помощь, а кроме того, бусурмане никогда не будут желать добра христианину, который для них хуже собаки… Да этим нехристям сам закон их беззаконный велит истреблять неверных, искоренять со света Божьего… Так разве можно верить их слову? Да эти дьяволы продадут нас первому встречному за бакшиш.
— Ты права, верить неверным нельзя, они вероломны, но это вообще относится к простым ордам, у которых нет интересов державных, а у всякой державы есть свои потребы, и ради этих потреб она и ненавистных врагов, и презренных собак обращает в своих союзников. Для Турции опасно усиление Польши или Московии; и та, и другая могут подорвать в конце концов ее могущество, а еще особенно, если эти царства когда-либо сплетут руку с рукой, — тогда бусурманству смерть! Так для Турции важнее, чтоб была меж этими двумя державами страна, да еще подвластная ей союзница.
— Это так, — после минутной вдумчивости согласилась Марианна, — у тебя, Иване, ясный разум, в силе его я не ошиблась!.. — При этих словах матовая бледность ее щек осветилась едва заметным румянцем. — Она и меня покарает! Хотя опять-таки, кто может заверить, что сама Турция смотрит так на свои потребы и серьезно для своих интересов ищет с нами союза?
— Вот это-то и есть неведомое, незнаемое, — вздохнул Мазепа, — и тут только опыт может вразумить нас. Что татарва лишь грабежник и не слишком-то повинуется своему державному владыке падишаху, то это мы уже знаем, а вот сама Турция как будет держать договор и как скоро будет являться на помощь союзникам, этого мы еще не изведали… Посмотрим! Конечно, если ее помощи не докличешься, если пока взойдет солнце — роса очи выест, то этот союз ни к чему: а если и придут союзники да станут своих же спильныков грабить, то такой союз будет уже страшной бедой… Всякий кол, выходит, о двух концах.
— Отгого-то мое сердце и ноет, словно чует, что не ждать нам от гонителей святого креста доброго конца.
Мазепа смолк. Тяжелое раздумье упало на собеседников и придавило их насунувшейся нудьгой.
— Ох, не сладко сироте искать себе приемного батька, — заговорил печальным тоном Мазепа, — но ничего не поделаешь… Конечно, у меня у самого лежит больше сердце к Москве…
— Да, друже мой, это вернее, чем с бусурманами, клянусь тебе, — заговорила горячо Марианна, воодушевляясь идеей Мазепы, — пусть над нами будет лучше Москва, чем поганая Турция или ненавистница Польша… Ах, и знаешь что, — сжала она порывисто руку Мазепе, — один только ты сможешь это сделать, один только ты! Я этому глубоко верю!
Мазепа был до глубины души тронут этим сердечным порывом Марианны; в нем сказалась и глубина любви ее к своей родине, и высокая вера в него, все это разбудило в его груди целую бурю мятежных чувств; он не мог разобраться в этих набегающих волнах ощущений, но чувствовал, что они подымают его, что они наполняют радостью и гордостью его сердце, снимают с него покров печали и сиротского отчуждения.
— Спасибо тебе, дорогая, коханая панна, найсердечнейший друг мой на свете, — ответил дрогнувшим голосом Мазепа, — спасибо за твое ласковое слово ко мне и за твою пламенную любовь к нашей неньке… Клянусь тебе, что судьба ее и для меня дороже моей жизни!.. Но чтобы я, лишь только я смог… Это тебя обманывает слепая дружба… Есть и другие, крепкие умы… да, наконец, чтобы направлять судно, нужно стоять у руля…
— И ты будешь кормчим! — воскликнула пророчески Марианна и величественно поднялась, словно желая венчать его на царство.
— Что ты, сестра моя, друже мой! — отшатнулся Мазепа, закрыв даже лицо от неотразимого соблазна, — не мне, не мне о том мечтать!
— Тебе и не мечтать, а честно стремиться! — промолвила строго Марианна, и в ее голосе, в ее позе и повелительном жесте руки было столько обаятельно властного, что Мазепа почувствовал даже священный трепет в своем сердце.
— Ты ли пророк мой, посланный с неба? — воскликнул он в опьянении и благоговейно поцеловал протянутую руку Марианны…
Марианна осталась еще погостить в Чигирине впредь до получения ответа от Гострого, к которому сейчас же гетман послал гонца. Побежали веселые дни, полные доброй деятельности и суетливого труда: писались письма, обдумывались мероприятия, снаряжались гонцы и послы, ополчались войска; лица у всех были озарены оживлением, и глаза смотрели смело вперед: чувствовалось, что цель в пути найдена, что попутный ветер поднялся и корабль окрыляется, поднимая торопливо и дружно все паруса.
Марианна тоже приняла деятельное участие в переписке и отписке, так что Дорошенко не раз замечал Кочубею:
— Эй, стерегись, пане, новый подписок мой тебя за пояс заткнет!
— А что же, за такой панной не угоняешься, — разводил руками Кочубей, — уж и женка моя боится, чтобы панна полковникова не отбила у меня должности.
Мазепа был с утра до ночи занят. Дорошенко хотел было его послать немедленно в Москву, но Мазепа уклонился от этого, заверив гетмана, что нужно предварительно подготовить Думу царскую и послать к тамошним влиятельным людям и письма, и подарки, а потом уже он двинется закрепить справу. Так и сделали: в Москву был отправлен Гамалий, а Мазепа остался в Чигирине направлять и вершить внутренние мероприятия. С Марианной они встречались часто и перебрасывались дружескими словами: для долгих бесед не было времени, а если и выпадал иногда свободный часок, то он тратился на обмен деловых, практических мыслей. Впрочем, ни та, ни другая сторона и не искали случая для излияний сердечных: дружеские отношения между ними были закреплены, а вера друг в друга и в грядущее открывала перед ними светлую даль, связывавшую их единством пути… Загадывать, что будет дальше, стремиться определить точнее свои отношения никому не хотелось, и отраднее было, не растравляя старых ран, врачевание которых предоставлено было времени, дружно и бодро идти в общей работе вперед, вверяя себя всецело своеволию слепой доли…
Дней через десять возвратился гонец от полковника Гострого с обширными письмами и к гетману, и к Марианне; последнюю вызывал батько к себе, чтобы поспешила вернуться и для помощи ему, и для разъяснения некоторых вопросов, которые он из писем понять не мог. Мазепа вызвался проводить панну к самому полковнику, так как он лично мог изложить все гораздо лучше, чем всякая бумага, да, кроме того, и поразведать всю подноготную о Многогрешном, впредь до получения из Москвы предварительного ответа.
В тот же день Марианна, взявши благословение от святого владыки, отправилась с Мазепой, во главе небольшого отряда, в путь. Прощание Сани с ней было особенно нежное; Кочубеиха полюбила панну полковникову, как родную сестру, и все намекала, что прощается только на время, что весь гетманский двор будет по ней тосковать, что ее светлый ум всем здесь приносит отраду, а некоторых и опьяняет, что, во всяком случае, без нее здесь не жить! Марианна с снисходительной улыбкой выслушала эти излияния Сани и подчеркнула, что принимает их лишь за любезность и шутку, обняла тем не менее горячо своего нового друга и обещала когда-нибудь завернуть в Чигирин, а коли кто соскучится по ней, то пусть доставит ей великую честь и радость, посетив ее лесное убежище.
Сам гетман с придворной своей дружиной провожал гостью до самого Днепра и здесь, выпивши на пароме уже последний подорожный кубок, обнял ее и пожелал успехов в достижении их общих заветных желаний. Когда паром тронулся, все перекрестились, замахали шапками и с криками: «Счастливо дай, Боже!» выпалили из рушниц на виват и на ясу1 грядущей победе.
__________
1 Салют.
В хате Остапа все дышало, по обыкновению, счастьем и покоем. Подложивши под голову руки, Остап лежал на лаве и наслаждался своим послеобеденным отдыхом. Орыся сидела у окна и вышивала ему тонкую сорочку, время от времени она опускала на колени работу и останавливала на Остапе нежный, любящий взгляд.
Между супругами шел дружеский разговор.
— А что, Остапе, уехала уже Марианна? — спросила, не отрываясь от шитья, Орыся.
— Уехала.
— А Мазепа?
— Да он поехал с отрядом провожать их, сегодня, верно, вернется назад.
— У ней же были с собою казаки и атаман их надворной команды?
— Ну а все-таки для большей безопасности.
— Нет, не то, Остап! — Орыся глубоко вздохнула и опустила работу на колени. — А кажется мне, что пан Мазепа уже забыл нашу Галину… Все он с этой Марианной, на нее только и смотрит. И тогда еще, помнишь, — эх! уже больше как полтора года минуло! — она приезжала к нам с ним в Волчьи Байраки, да как увидала Галину, как увидала, как Мазепа ей обрадовался, — побелела, как стена, едва не упала. Я тогда сразу и заметила, что она, эта Марианна, в Мазепу нашего закохана. А теперь вот сюда опять даром она приехала? Для того и приехала, чтоб закохать в себя Мазепу. Ну, что ж, и привлечет, причарует. Куда ей было, бедной нашей Галине, и живой бороться с этой пышной панной, а теперь уже мертвой… — Орыся махнула рукою и прибавила с глубоким вздохом: — А ведь как любила его, Господи!