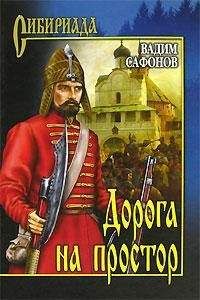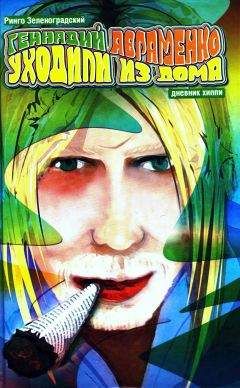Отметил место на берегу.
– Патрикеич! Досюдова не доедем – назад поворотим, если что. А переедем – заспешим вперед.
У бурлаков взмокли спины, лямки-хомуты трут плечи; голые пальцы торчат из лаптей, разбитых на острых камнях.
– Так ничего нет? Ты зорче моего.
– Ничего… Да только… С нами сила крестная!
Из устья реки Усы высыпала черная стайка лодок. Их почти не видно над водой, только заметно, как вспыхивают огоньки по бокам – то часто взмахивают весла, рассыпая водяные брызги. Взвились рогожные паруса, стая стругов берет наперерез; видно, что они полным-полны людей. Смутный рев долетает по воде.
Теперь на судне кричат все. От сверхсильного напряжения людей зависит, проскочит ли судно.
Все ближе лодки – шибко разбежались они по воде. Уже слышны ругань и свист. Пестрый, – как напоказ, – человек с вихром из-под шапки правит крылатой стаей.
– Сниму, купец! Твой целковый! – кричит стрелок.
– Первым не пали! Озлишь!
Вот они. Сотня рук, взмахивающих веслами. Косматые головы, полуоткрытые, тяжело дышащие рты. Кудрявый чуб у рослого вожака.
Ясно слышен его покрик:
– Налегай, братцы-удальцы! Хвост прищемим, бурмакан аркан!
Вот они, душегубы. Они – за его жизнью, за его, Ивана Митрича, кровью. Что она им?
И ему вспомнилось, как, маленький, он протягивал руку против солнца или против огня и дивился, видя красную кровь свою внутри прозрачных пальцев.
И, как в детстве, ему представилось, что если зажмуриться или оборотиться туда, где, в золотой пыли, спокойно носились птицы, – сгинет нелепица, останется все твердое, ясное, необходимое, что было четверть часа назад.
– Греби, рви, не щерься, Иуда!
Он хлестнул наотмашь гребца, уже грудью припадавшего, с пеной на почернелых губах, к спине переднего товарища.
– Вызволяй, соколики, голубчики, озолочу!
Что? Маху дали воры? А тот как же? – ведь он – жив человек! Перенять расшиву не удалось, проскочила. Позади нагие обрывы, змеистые гребни, дремучие чащи – вот-вот сплывутся в недоброе облачко.
Маленькая рыбацкая лодка на стрежне, мирная, на ней, на шесте, черный лоскут.
Скинув шапку, купец бормочет:
– Господи, спасибо!
И не заметил никто на судне, как из сумрака прибрежных кущ выпорхнул в мертвой тишине десяток новых стружков.
Человек на рыбачьей лодке махнул черным лоскутом и стружки разделились надвое, зашли спереди и сзади.
И когда увидел их купец, он сразу стал спокоен. Нечего было ни истошно орать, ни суетиться. То был конец. Все же взял самопал, неспешно, не торопясь, навел, пальнул. Еще несколько выстрелов враздробь грохнуло с расшивы.
Но уже с хряском десяток крючьев вонзился в смоленые борта.
Полуголые люди, вышибая доски, полезли на борт. Снова у кормы раздался крик чубатого вожака. Бой был короток. Судовые кидали оружие. Малочисленная охрана, смешавшись, отбивалась недружными ударами топоров и бердышей.
Старик со слезящимися глазами и голой грудью в седом волосе, Мелентий Нырков, широко перекрестился над трупом купца, удавленного кушаком.
– Помяни, господи… души хрестьянские…
Сорвали люк в трюме. Тюки с товарами переваливали в ладьи.
Вода повернула судно поперек реки. По сосновым доскам палубы, вылизывая тонким языком встречные предметы, осторожно пробежал синеватый на солнце огонь, вырвавшийся из печки кухаря.
У рябого казака из шаровар покатились серебряные и медные монеты. Тот, с кем случился грех, не нагнулся за ними и виду не подал.
Это была мелочь из купеческой казны, пригоршней захваченная на судне, до дележа.
Вокруг казака стало пусто. Рука старшого легла ему на плечо.
Виновный стоял перед самым главным атаманом, перед Ермаком, и прихорашивался, силясь ухмыльнуться.
– Вор! Своих обирать?..
– Как смотришь, атаман, – говорил старшой. – Парень справный, бесстрашный, допрежь никогда… Сибря-то. Да и полтина всего. Выпороть бы…
– По донскому закону, – сказал Ермак.
Рябому скрутили руки, зашили рукава кафтана, набили их камнем и песком. Повели к лодке; он сплюнул сквозь зубы и засвистал; шел, ногой загребая листья. Трое отъехали с ним. Он коротко крикнул и дернулся только тогда, когда, подняв, раскачивали его над глубокой водой.
Казак, с турецкой саблей на боку, вышел плясать под шутовскую песню. Бровь его была рассечена старым шрамом. Высоко вскидывая ноги, тяжело топая, Брязга выкрикивал, вторя певунам: подвилья Подвиль яблонь Натравили противили нафиля!
Хмель уже ходил по ватаге…
Убитым помазали губы медом и вином, которого им не довелось испить, – не воем и плачем, земной сладостью надо провожать своих мертвых; и чтобы не тоску, а веселье в последний раз услышали они.
В домовины положили сабли, ливонские палаши, кафтаны – из доли добычи тех, кому вечно там спать.
Похоронили их у Казачьей горы.
Крестьяне сели портняжить, зашивать изодранную одежонку, и рядом с ними – на корточках, на земле – бурлаки.
С Жигулей широко и пустынно видна Волга. Сизое пыльное марево – над степями за ней.
Почти сровнялись с землей старинные могильники. А каменные болваны, лицом к востоку, остались стоять на них. То – изображения неведомых врагов, поверженных во прах неведомым богатырем, лежащим под курганом…
Миновало много месяцев.
И однажды высоченный детина прибрел на Волгу. Он не был уже тучен, брюхо его, некогда в обхват толщиной, опало. Волосы, спутанные, придавали ему зверообразный вид. Но и теперь он не мог вовсе отказаться от щегольства, и серьга с голубоватым камешком была вдета у него в одно ухо. Он сипло пропищал, что каша на Дону стала крута – так ее заварили атаманы. Шпыни с московскими листами начали, Дорош добавил больше всех. И помрет, верно, Махотка, – слезами исходила баба, страшно смотреть!..
– Ишь ты! А что Москве и Дорошу Махотка?
– Да кой прах Дорош! Да лопни он и сгинь! Удавись он кишками своих коней, тот Дорош! По мне убивается баба!.. Что кинул ее и до вас подался! Вот присохла – ого-го! И со мной всякая так. Сколько переморил их – и не счесть, милый!
– Ох, шут! Ох, Баглай! Да про что ты?
– Да про то же! Царские листы привезли на Дон. А в листах тех написано, что воры вы. Круг собрали. А Дорош залютовал!..
Лютовал он, крича: пора-де вывести, с кореньем вырвать воровство и охальство на синем Дону. А Баглай так понимал, что снасти своей, стругов, припасу жалко Дорошу, да и обещанной доли из добычи. Что-то все не возвращались Ермаковы казаки на поклон к нему!
– Ну, а Коза? Как Коза, Бурнашка?
Только и занимал Козу дымок турецкого тютюна. А когда отлютовал Дорош и грозно отговорил московский посланный, Коза проворно вынул люльку изо рта, обвел прищуренным глазом круг и приговорил:
– Ермака схватить и под стражей в Москву, прочих донских, кто пошел с ним, бить ослопьем.
– С Дону выдавать?!
– Люлька в шуйце, – сказал Баглай, – десницей хвать булаву. Вот те и Коза: ме-е-е!..
Ему поднесли ковш. И скоро он заговорил о том, как один проплыл через турецкий бом в пять рядов цепей у Азова, сгреб в шапку сокровища паши и пожег халаты его жен.
Он охмелел и стал сыпать слова на придуманном им самим языке, щедро мешая русскую, татарскую, персидскую речь.
Потом он заснул и проспал четырнадцать часов.
Наутро чья-то рука разбудила его.
– Так что, говоришь, сказывал Дорош?
– Что не казак ты… не низовой. Холоп, мол, и смерд из тех, что сверху.
– Знает свое дело… Худая весть, да важна; дюже важна. Что в пору принес, не промешкал, спасибо, Баглай.
И Ермак поцеловал его.
Вечером, у костра на берегу, Баглай окликнул казака с русой бородкой. Согнувшись, долго подпарывал полу зипуна, пока не извлек оттуда бурые клочья.
– Тебе.
Но тотчас отвел руку:
– Впрочем, грамоту ты разумеешь, как я турецкую веру.
С сомненьем поглядел на следы немыслимых каракуль полууставного письма.
– Сам писал, сам могу и прочесть. Только тёмно тут… Да ты не бойсь – и так скажу: тебя любя, вытвердил, что она говорила, как "Отче наш".
Вот как сложил казак в уме своем слова этой грамоты, откидывая, не слыша то, что от себя вплетал Баглай:
"Жив ли ты, Гаврила Ильич, по молитвам нашим? Не знаю, каков ты ноне, во снах только видаю. Может, ты большой атаман. А повещаю тебя, что в станице избушек по куреням стало вдвое против прежнего. А рыба вернулась в реку, как не бывало, и яблоньки наливают. А как холсты белить, вода пошла и залила аж Гремячий, а на Егорья трава сладкая, и на конский торг съехалось народу невиданно. Ходила я на вечерней зорьке, где голубец стоит. Прошу тебя, не сыскивай ты той горы Золотой. Забудь слова мои прежние, господине, неутешная я из-за них. Ворочайся до дому, чисто, светло у нас в степях. А хоть босого, хоть голого встретить тебя. Меду донского я, сиротинка, шлю тебе. А про азовцев и крымцев и не слыхано у нас…”
Баглай выпрямился во весь свой несообразный рост и сказал: