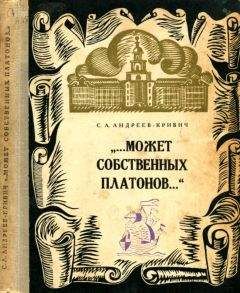Проходя по рядам и благословляя ставших на свою последнюю молитву, Исаакий и Максим повторяли:
— Мы за старую веру в часовне сгорим все, и в сих венцах станем все пред Христа.
— Сгорим все до единого человека! — неслось под своды часовни.
Но — что это? Где-то в стороне раздалось рыдание. Когда подошли вероучители, один из стоявших на коленях задыхающимся голосом шептал:
— Огонь… Страшно…
— Не страшись, — тихо ответил Исаакий. — Как сожжемся мы, так нам на том свете не будет муки, а будет нам царство небесное. Что говорит учитель наш и страдалец Аввакум? Вот что говорит. — И Исакий стал пересказывать то место из Аввакумова письма к Симеону, где Аввакум пишет: «Боишися пещи той? Дерзай, плюнь на нея, небось! До пещи той страх-от, а егда в нея вошел, тогда и забыл вся. Егда же загорится, а ты и увидишь Христа и ангельския силы с ним: емлют души те от телес, да и приносят ко Христу, а он, надежа, благословляет и силу ей подает божественную… яко восперенна туды же со ангелы летает, равно яко птичка попорхивает. Рада, из темницы той вылетела! Темница горит в пещи, а душа, яко бисер и яко злато чисто, взимается со ангелы выспрь, в славу богу и отцу…»
Пересказав Аввакума, Исаакий добавил:
— Враги нам сами помогают.
Береста, сухая солома и черное горючее смолье были заранее подложены снизу под всю часовню. И как только Максим Нечаев, выйдя из двери наружу, бросил под часовню пылающий факел, сразу вспыхнуло пламя.
Поспешно вернувшись в часовню, Нечаев крепко изнутри закрыл ее замком: чтобы не было греха тем, кто вдруг усомнится в огненном крещении… Наружу были выставлены только четыре человека, которые должны были оборонять дверь от солдат, стреляя в них из ружей.
…Огонь бил через прогоревшую крышу, языки пламени свивались в жгуты и в гудящий круговорот летели вверх. Со свистом вырывались космы крупных искр и в обгон летели вверх. На высоте они рвались в мелкую огненную крошку, опадавшую на деревья, ссыпавшуюся, угасая, на землю.
Пытавшиеся выломать дверь солдаты толпились в стороне, обивая руками тлевшую одежду и протирая изъеденные дымом глаза.
Особенно надрывно кричала девочка. Ей было всего лет семь-восемь.
Она мало что еще понимала и любила слушать сказки, которые рассказывала ей мать. Вот голос девочки слабеет.
Сбоку у разбитого окна суетятся солдаты. Им удалось вытащить из огня какую-то старуху. Она кричит.
Уже и близко около часовни стоять невозможно. Цепь солдат раздастся.
Слышны еще стоны и крики. А вот кто-то громким задыхающимся голосом читает молитвы. Нечаев.
Больше не слышно ни стонов, ни криков, ни молитвенного чтения.
Крыша поползла в стороны, прогнулась; стропила, по которым струились огненные языки, расселись; раздался треск, и крыша, просев, провалилась внутрь часовни.
«Крещенные огнем», уже мертвые, старики, молодые, дети лежали недвижимые под ее обломками. В живых осталось только четверо: трое из оборонявших дверь от солдат, да старуха Анна Гаврилова, которую вытащили из разбитого окна.
Вернувшись осенью с моря, Михайло узнал о гари в Никольской пустыни. Идти уже, значит, было некуда. И незачем.
Гарей со времени раскола случилось немало. Впервые жглись еще в 1665 году. Но — может, только потому и жглись, что не хотели отдаться в руки врагов? Так говорили многие. А если своей волей — то не придумали ли эту страшную правду такие, как Василий Нечаев, Исаакий Петров? Изуверы, Аввакумова ли это прямая правда — крещение огнем своей волею?
Снова Михайло Ломоносов читает Аввакума.
Вот Аввакум пишет о крестьянине:
«Он, мой бедной, мается шесть-ту дней на трудах…» В чем же ему утешение? Самое высокое? В церковь «прибежит» в седьмой день, воскресный, «ано и послушать нечево — по-латыне поют». Так чем же утешиться? «Да еще бы в огонь християнин не шел! Сгорят-су все о Христе Исусе, а вас, собак, не послушают».
Вот ниже: «Да и надобно так правоверным всем: то наша и вечная похвала, что за Христа своего и святых отец предания сгореть, да и в будущем вечно живи будем…»
Еще. «В Казани никонианя тридесять человек сожгли, в Сибире столько же, в Володимере шестеро, в Боровске четыренадесять человек; а в Нижнем преславно бысть: овых[43] еретики пожигают, а инии, распальшеся любовию и плакав о благоверии, не дождався еретического осуждения, сами во огнь дерзнувше, да цело и непорочно соблюдут правоверие. И сожегше своя телеса, душа же в руце божии предаша, ликовствуют со Христом во веки веков, самовольны мученики. Христовы рабы. Вечная им память во веки веков! Добро дело содеяли… надобно так».
Еще у Аввакума: «А иные ревнители закона суть, уразумевше лесть отступления, да не погибнут зле духом своим, собирающеся во дворы с женами и детьми, и сожигахуся огнем своею волею. Блажен извол сей о господе!»
О чем тут? Что говорит Аввакум? Иные ревнители древнего благочестия, поняв, как велик соблазн отступления, познав, что иногда ослабнет дух — и откажешься от учения, жгутся с женами и детьми своей волей. Так и надо…
Это самая высокая правда Аввакумова учения?
Вот Аввакумова «Повесть о страдавших в России за древлецерковная благочестная предания», при чтении которой так взволновался когда-то Павел Череда. Кончился страшный рассказ Аввакума об удавленных на виселице, сожженных, рассеченном на пятеро, положенных под меч. «Мы же, оставшии, еще дышуще»? Что делаем? Отвечает Аввакум: «Воспеваем, радующеся, Христа славяще». Чему же радоваться? «…Не тужите о здешнем том окаянном житии, но веселитеся и радуйтеся праведнии о господе, понеже[44] прейдоша от злаго во благое и от темнаго в житие светлое. Мы же еще в море, плаваем пучиною, и не видим своего пристанища. Не вемы бо, доколе живот[45] наш протянется, умилосердится владыка и даст ли нам та же чаша пить, ея же сам пил, и вас, рабов своих, напоил».
Ту же чашу пить? Это самое заветное…
Что же Выг, что другие пустыни, где в молитве трудятся пустынножители? И в меру возможного в земном преуспевают? Теперь Михайле вполне становится ясным то, что говорили о своих пустынях раскольники. Пустынь — лишь первая ступень. А вторая? Настоящее? «Блажен час сей, когда человек сам себя своею волею сожжет». Как же к земному, к жизни вполне обратиться, веруя в эту правду?
Михайло опять перечитывает беседу Аввакума о внешней мудрости. В ней-то как раз, в конце и говорится о том, что то «наша и вечная похвала» сгореть «да и в будущем вечно живи будем». И что же проклял, кроме всего, в этой беседе Аввакум? Кого? Тут сказано об этом. Выше. Платон, Пифагор, Аристотель, Диоген, Иппократ, Галин… Проклял Аввакум науку.
Уже в начале зимы Василий Дорофеевич как-то сказал сыну:
— Слушай, Михайло. Вчера приехал человек один из Пертоминского монастыря. Сказал, что не видел тебя там прошлой зимой. Ведь туда у меня отпрашивался.
— Я там не был.
— А где же?
Михайло рассказал отцу все.
Выслушав его, Василий Дорофеевич сказал:
— Умело таился. Так как же — не пойдешь в какую-нибудь пустынь? Никольской больше нет, можно в другую.
— Нет, не пойду. Незачем.
— Ну что же. Не только что прямым учением человек учится. Обожжешься — тоже учение.
В один из зимних дней Михайло Ломоносов собрал все бывшие у него раскольничьи книги и пошел в Татурово. Отдавая их, он сказал:
— Вот книги. Я по ним уже все узнал.
Глава 6. ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ ЛОМОНОСОВА
Михайло опять принялся отбивать косу.
Настланные по торфянику мостки заскрипели под быстрыми женскими шагами.
— Все думаешь? — спросила мачеха, подходя к пасынку.
— Все думаю.
— Ну и до чего-либо уже додумался?
— Покуда не до всего.
— И ума палата, а все еще не удумаешь?
— Случается.
— Дед — то Федор чуть было не проклял тебя? Рассказали уж мне. Вот и пришла тебя проведать. Что, думаю, с сыном?
— Спасибо, матушка. Знаю — всегда добра мне желаешь.
Мачеха искоса метнула недобрый взгляд.
Первая жена Василия Дорофеевича Ломоносова, мать Михайлы, умерла уже давно. Недолог был и второй брак — умерла и вторая жена. И теперь Василий Дорофеевич был уже в третьем браке. Ирина Семеновна, вторая мачеха Михайлы, женщина недобрая и гневная, не любила пасынка. А как пришел этим летом Михайло с моря один, вроде как уж хозяином и распорядителем, мачеха и особенно стала злобиться.
В самом деле: случись что с мужем, Михайло — хозяин, она — горькая вдова.
— Прежде чем прийти сюда, на вышку поднялась, в твою светелку[46], в терем-то твой заходила я, туда, где летом сидишь, где думы свои великие думаешь да книги читаешь свои новые. Не там ли ты? Прошла это я по лестнице, из сеней, на вышку. Захожу. Нету. Гляжу — и книг нету. Не в сундук ли ты кованый, что в углу там стоит, их спрятал да замком накрепко закрыл? К чему бы их под замок?